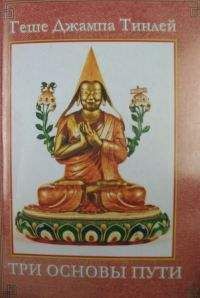Карнавальное действо увенчания — развенчания пронизано, конечно, карнавальными категориями (логикой карнавального мира): вольным фамильярным контактом (это очень резко проявляется в развенчании), карнавальными мезальянсами (раб — король), профанацией (игра символами высшей власти) и т. п.
Мы не будем здесь останавливаться на деталях обряда увенчания — развенчания (хотя они очень интересны) и на различных вариациях его по эпохам и разным празднествам карнавального типа. Не будем также анализировать и различные побочные обряды карнавала, такие, например, как переодевания, то есть карнавальные смены одежд, жизненных положений и судеб, карнавальные мистификации, бескровные карнавальные войны, словесные агоны — перебранки, обмен подарками (изобилие как момент карнавальной утопии) и др. Все эти обряды также транспонировались в литературу, придавая символическую глубину и амбивалентность соответствующим сюжетам и сюжетным положениям или весёлую относительность и карнавальную лёгкость и быстроту смен.
Но, конечно, исключительно большое влияние на литературно-художественное мышление имел обряд увенчания — развенчания. Он определил особый развенчивающий тип построения художественных образов и целых произведений, причём развенчание здесь было существенно амбивалентным и двупланным. Если же карнавальная амбивалентность угасала в образах развенчания, то они вырождались в чисто отрицательное разоблачение морального или социально-политического характера, становились однопланными, утрачивали свой художественный характер, превращаясь в голую публицистику.
Необходимо ещё особо коснуться амбивалентной природы карнавальных образов. Все образы карнавала двуедины, они объединяют в себе оба полюса смены и кризиса: рождение и смерть (образ беременной смерти), благословение и проклятие (благословляющие карнавальные проклятия с одновременным пожеланием смерти и возрождения), хвалу и брань, юность и старость, верх и низ, лицо и зад, глупость и мудрость. Очень характерны для карнавального мышления парные образы, подобранные; по контрасту (высокий — низкий, толстый — тонкий и т. п.) и по сходству (двойники — близнецы). Характерно и использование вещей наоборот: надевание одежды наизнанку (или навыворот), штанов на голову, посуды вместо головных уборов, употребление домашней утвари как оружия и т. п. Это особое проявление карнавальной категории эксцентричности, нарушения обычного и общепринятого, жизнь, выведенная на своей обычной колеи.
Глубоко амбивалентен образ огня в карнавале. Это огонь, одновременно и уничтожающий и обновляющий мир. На европейских карнавалах всегда почти фигурировало особое сооружение (обычно повозка со всевозможным карнавальным барахлом), называвшееся «адом», в конце карнавала этот «ад» торжественно сжигался (иногда карнавальный «ад» амбивалентно сочетался с рогом изобилия). Характерен обряд «moccoli» римского карнавала: каждый участник карнавала нёс зажжённую свечу («огарок»), причём каждый старался погасить свечу другого с криком «Sia ammazzato!» («Смерть тебе!»). В своём знаменитом описании римского карнавала (в «Итальянском путешествии») Гёте, пытающийся раскрыть за карнавальными образами их глубинный смысл, приводит глубоко символическую сценку: во время «moccoli» мальчик гасит свечу своего отца с весёлым карнавальным криком «Sia ammazzato il Signore Padre!» (то есть «Смерть тебе, синьор отец!»).
Глубоко амбивалентен и самый карнавальный смех. Генетически он связан с древнейшими формами ритуального смеха. Ритуальный смех был направлен на высшее: срамословили и осмеивали солнце (высшего бога), других богов, высшую земную власть, чтобы заставить их обновиться. Все формы ритуального смеха были связаны со смертью и возрождением, с производительным актом, с символами производительной силы. Ритуальный смех реагировал на кризисы в жизни солнца (солнцевороты), кризисы в жизни божества, в жизни мира и человека (похоронный смех). В нём сливалось осмеяние с ликованием.
Эта древнейшая ритуальная направленность смеха на высшее (божество и власть) определила привилегии смеха в античности и средние века. В форме смеха разрешалось многое, недопустимое в форме серьёзности. В средние века под прикрытием узаконенной вольности смеха была возможна «parodia sacra», то есть пародия на священные тексты и обряды.
Карнавальный смех также направлен на высшее — на смену властей и правд, смену миропорядков. Смех охватывает оба полюса смены, относится к самому процессу смены, к самому кризису. В акте карнавального смеха сочетаются смерть и возрождение, отрицание (насмешка) и утверждение (ликующий смех). Это глубоко миросозерцательный и универсальный смех. Такова специфика амбивалентного карнавального смеха.
Коснёмся в связи со смехом ещё одного вопроса — карнавальной природы пародии. Пародия, как мы уже отмечали, неотъемлемый элемент «Менипповой сатиры» и вообще всех карнавализованных жанров. Чистым жанрам (эпопее, трагедии) пародия органически чужда, карнавализованным же жанрам она, напротив, органически присуща. В античности пародия была неразрывно связана с карнавальным мироощущением. Пародирование — это создание развенчивающего двойника, это тот же «мир наизнанку». Поэтому пародия амбивалентна. Античность, в сущности, пародировала все: сатирова драма, например, была первоначально пародийным смеховым аспектом предшествующей ей трагической трилогии. Пародия не была здесь, конечно, голым отрицанием пародируемого. Все имеет свою пародию, то есть свой смеховой аспект ибо все возрождается и обновляется через смерть. В Риме пародия была обязательным моментом как похоронного, так и триумфального смеха (и тот и другой были, конечно, обрядами карнавального типа). В карнавале пародирование применялось очень широко и имело разнообразные формы и степени: разные образы (например, карнавальные пары разного рода) по-разному и под разными углами зрения пародировали друг друга, это была как бы целая система кривых зеркал — удлиняющих, уменьшающих, искривляющих в разных направлениях и в разной степени.
Пародирующие двойники стали довольно частым явлением и карнавализованной литературы. Особенно ярко это выражено у Достоевского, — почти каждый из ведущих героев его романов имеет по нескольку двойников, по-разному его пародирующих: для Раскольникова — Свидригайлов, Лужин, Лебезятников, для Ставрогина — Пётр Верховенский, Шатов, Кириллов, для Ивана Карамазова — Смердяков, чёрт, Ракитин. В каждом из них (то есть из двойников) герой умирает (то есть отрицается), чтобы обновиться (то есть очиститься и подняться над сами собою).
В узкоформальыой литературной пародии нового времени связь с карнавальным мироощущением почти вовсе порывается. Но в пародиях эпохи Возрождения (у Эразма, Рабле и других) карнавальный огонь ещё пылал: пародия была амбивалентной и ощущала свою связь со смертью — обновлением. Поэтому в лоне пародии и мог зародиться один из величайших и одновременно карнавальнейших романов мировой литературы — «Дон-Кихот» Сервантеса. Достоевский так оценивал этот роман: «Во всем мире нет глубже и сильнее этого сочинения. Это пока последнее и величайшее слово человеческой мысли, это самая горькая ирония, которую только мог выразить человек, и если б кончилась земля и спросили там, где-нибудь людей: «что вы, поняли ли вашу жизнь на земле и что об ней заключили?» — то человек мог бы молча подать Дон-Кихота: «Вот моё заключение о жизни, можете ли вы за него судить меня?»
Характерно, что эту свою оценку «Дон-Кихота» Достоевский строит в форме типичного «диалога на пороге».
В заключение нашего анализа карнавала (под углом зрения карнавализации литературы) несколько слов о карнавальной площади.
Основной ареной карнавальных действ служила площадь с прилегающими к ней улицами. Правда, карнавал уходил и в дома, он был ограничен, в сущности, только во времени, а не в пространстве; он не знает сценической площадки и рампы. Но центральной ареной могла быть только площадь, ибо карнавал по идее своей всенароден и универсален, к фамильярному контакту должны быть причастны все. Площадь была символом всенародности. Карнавальная площадь — площадь карнавальных действ — приобрела дополнительный символический оттенок, расширяющий и углубляющий её. В карнавализованной литературе площадь, как место сюжетного действия, становится двупланной и амбивалентной: сквозь реальную площадь как бы просвечивает карнавальная площадь вольного фамильярного контакта и всенародных увенчаний — развенчаний. И другие места действия (конечно, сюжетно и реально мотивированные), если только они могут быть местом встречи и контакта разнородных людей, — улицы, таверны, дороги, бани, палубы кораблей и т. п. — получают дополнительное карнавально-площадное осмысление (при всей натуралистичности их изображения, универсальная карнавальная символика не боится никакого натурализма).