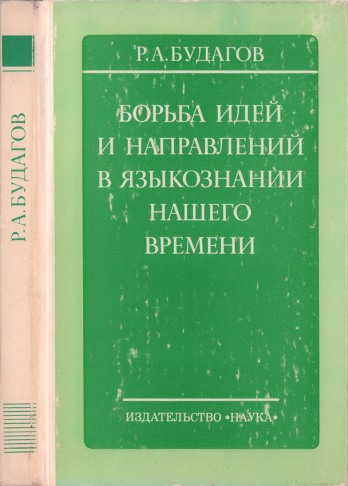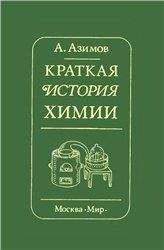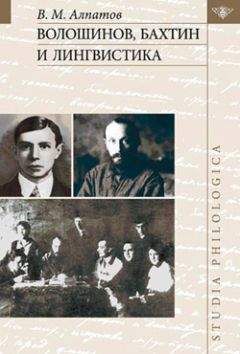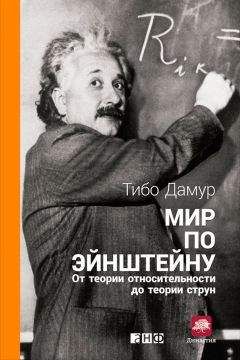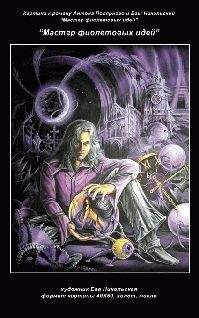разные ответы. Но исследование подобных «ответов» представляет большой теоретический интерес.
Уже тот факт, что в европейских языках противопоставление единственного и множественного чисел приобретает в самой грамматике большее значение, чем противопоставление, например, единственного и двойственного (где оно имеется) чисел, обнаруживает связь грамматики через посредство мышления с реальной действительностью. Первое противопоставление оказывается семантически важнее и универсальнее сравнительно со вторым противопоставлением.
С подобной связью языка и действительности в наше время стало модным не считаться [266]. Об этом нельзя не сожалеть. Что только не делается, например, чтобы доказать, будто между грамматической категорией времени в европейских языках и категорией времени, которой люди оперируют в жизни, нет никакой связи. Между тем при всей специфике понятия времени в грамматике в отличие от понятия времени в жизни между ними, разумеется, имеются глубокие и разнообразные контакты.
В свое время Вандриес отмечал, что одному немецкому прошедшему времени типа ich liebte ʽя любилʼ соответствуют во французском языке два прошедших времени типа jʼaimais (имперфект) и jʼaimai (перфект) [267]. И таких примеров несовпадения количества грамматических типов времен между разными языками (даже в пределах родственных групп) можно приводить десятками. И все же принцип разграничения внутри категории времени, хотя и передается в разных языках различно, остается принципом, подсказанным самой жизнью, самой необходимостью так или иначе разобраться в категории времени.
На пути подобного исследования возникают разнообразные препятствия. В одной итальянской новелле XIV столетия автор заставляет рыцаря прожить целую жизнь за один краткий миг, в течение которого император Фридрих едва успевает вымыть руки [268]. Когда в сказках различных народов сообщается «жили-были старик и старуха», то подобное прошедшее время имеет такой же прошедший характер, как и настоящий или будущий [269]. Когда полушутя, полусерьезно Валентин Катаев замечает устами одного из персонажей:
«Ты опять тут? – спросил Санька по прошествии того, что в физике называется временем»,
то в этой шутке много серьезного: здесь подчеркнута сложность самого понятия «быстротекущего времени» [270].
И все же, несмотря на подобные осложнения, категория времени в грамматике различных языков, не прямо и отнюдь не прямолинейно, но так или иначе соотносительна с категорией времени в жизни, с категорией, необходимость которой для человека совершенно очевидна.
На пути исторического истолкования категории времени возникает множество интереснейших проблем. В свое время Ф.Ф. Зелинский убедительно показал, что в гомеровском эпосе обнаруживается закон, названный им законом хронологической несовместимости: одновременные события здесь излагаются как события последовательные – мышление человека тогда еще не умело представить себе принцип одновременности, раздвигая во времени то, что в действительности происходит одновременно [271]. До сих пор еще мало исследован вопрос о том, как на такие явления в истории человеческого мышления откликался тот или иной язык, в частности, с помощью своих грамматических категорий.
Таковы, как представляется, предпосылки, позволяющие понять историческую и социальную природу грамматики. Грамматика не может быть в стороне от языка, социальная природа которого очевидна.
Известно, что сознание средневекового человека расчленяло мир во многом иначе, чем сознание современного человека. На материале лексики подобное различие демонстрировать, разумеется, легче, чем на материале грамматики. В предшествующих разделах уже была сделана попытка показать, что и грамматика участвует в общих процессах развития языка. Возвращаясь к лексике, отмечу, что во многих древних европейских языках нельзя было сказать «прекрасный, но дурной», «умный, но нечестный»: одно понятие не совмещалось с другим и в логике, и в языке.
«Различие между современными и древними представлениями о чести настолько велико, что бесполезно пытаться выразить посредством современного слова древние представления» [272].
Здесь прямо ставится вопрос о том, как несходства между понятиями в различные исторические эпохи должны были отражаться и в соответствующих языках. Но то, что в лексике передается непосредственно, в грамматике – не только опосредованно, но и менее конкретно: грамматика обычно откликается на подобные процессы в истории мышления не словами, а категориями.
Итак, проблема воздействия человека на язык, в особенности на литературный язык, еще раз обнаруживает социальную природу языка. И в той мере, в какой подобное воздействие относится и к грамматике, оно же выявляет социальную природу грамматики. То, что социальная природа языка в разных его областях и сферах обнаруживается различно и требует соответственно различных приемов исследования, не может служить основанием для сведéния понятия социального к одному лишь понятию лексического.
На пути исследования важнейшей темы «язык и действительность» (часть более широкой проблемы социальной природы языка) возникают не только реальные и серьезные трудности, о которых уже шла речь, но и трудности мнимые, хотя часто и настойчиво до сих пор повторяемые.
К таким мнимым трудностям относится, в частности, следующее. Уже давно, а в наше время особенно настойчиво, вопрос обычно ставят так: многое, возможное в языке, невозможно в действительности, следовательно, язык не отражает действительности и не связан с нею. При этом приводятся стандартные примеры – баба-яга, русалка, леший и т.д. Цитируются образцы нереальных понятий и соответствующих обозначений у Плавта и Данте, у Шекспира и Флобера и у многих других писателей [273]. Известно, что когда Конан-Дойл прекратил свои рассказы о Шерлок Холмсе и объявил о смерти знаменитого сыщика, то многие читатели не хотели верить этому и просили писателя продолжить повествование о приключениях Холмса. В реальность Шерлок Холмса верили, хотя это была призрачная реальность.
Подобные «доводы» не могут, однако, ни в малейшей степени поколебать положение о связи языка с реальной действительностью, с нуждами и потребностями людей (в самом широком смысле) определенной эпохи. Если сознание даже большой группы людей допускает реальность существования леших и русалок, то вопрос этот, сам по себе важный и интересный, относится к тому кругу проблем, которые стремятся установить, как исторически люди научились или не научились понимать окружающую их природу. Они могут воспринимать ее по-разному, в зависимости от множества условий их жизни и мировоззрения, их культуры и образования, исторических традиций и семейных преданий. Все это свидетельствует о сложности отношения людей к окружающему их миру, но все это не дает никаких оснований для сооружения преграды между языком и действительностью. Приходится только удивляться, что аргумент с лешими и русалками до сих пор часто приводится для «доказательства» автономности языка.
Гораздо более серьезная проблема возникает при рассмотрении взаимоотношений между языком и идеологией людей, говорящих на том или ином языке. Прежде чем дать краткую справку из истории вопроса, подчеркну, что в наше время его освещение дается с позиций двух противоположных концепций.
После