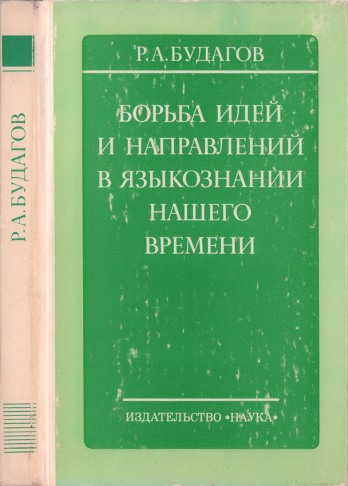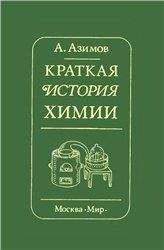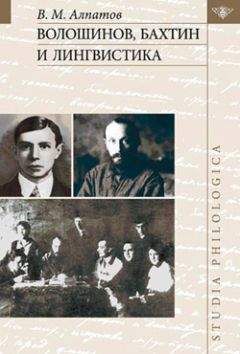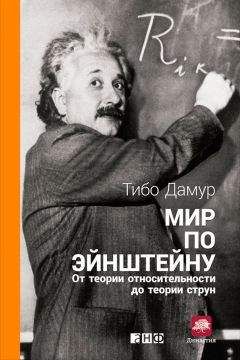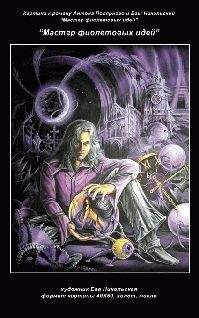специальному, но живому грамматическому процессу можно подойти с позиции социолога. В связи со стремительным ростом удельного веса научных публикаций во всем мире, в том числе, разумеется, и на французском языке, в системе единого языка развиваются своеобразные стили или типы, разновидности единого языка. Вырабатываются не только особенности разговорной речи в отличие от речи письменной (тоже стили или типы), но и особенности научного изложения в отличие, например, от художественного изложения.
Но в научном стиле имена прилагательные обычно выступают в своем прямом, непереносном значении. Ср., например, la physique nucléaire ʽядерная физикаʼ, la géométrie analytique ʽаналитическая геометрияʼ, la chimie organique ʽорганическая химияʼ, la linguistique sociologique ʽсоциальная лингвистикаʼ, le système astronomique ʽастрономическая системаʼ. Подобные примеры (их можно приводить сотнями) обнаруживают не только устойчивую постпозицию прилагательного в научной терминологии, но и его точное, собственное (не фигуральное) значение. В той же мере, в какой рост удельного веса научной литературы в современном мире является фактором глубоко социальным, этот фактор оказывает свое опосредованное воздействие и на некоторые грамматические особенности языка.
Разумеется, вопрос этот нельзя упрощать. В наше время, как и в эпоху Стендаля, хорошие стилисты продолжают раздумывать над препозицией и постпозицией прилагательного. На выбор места прилагательного продолжают оказывать воздействие все внутренние факторы, имевшие место и раньше (семантические и стилистические оттенки, ритм словосочетания, синтаксическое окружение и пр.). И все же социальный импульс, как ариаднина нить, дает возможность взглянуть на все перечисленные факторы с новой точки зрения. Хотя социальный импульс объясняет лишь одну группу подобных факторов, он сам по себе очень важен в методологическом плане: социальная природа языка обнаруживается и в грамматических процессах живых языков человечества. Пусть мы не всегда умеем увидеть и «вытянуть» эту ариаднину нить, само ее существование приобретает важнейшее теоретическое значение.
Разумеется, сравнительно с первым грамматическим процессом, вызвавшим перестройку всей конструкции предложения, препозиция и постпозиция прилагательного выступают как сравнительно локальные синтаксические явления, но здесь важно подчеркнуть, что социальные импульсы дают о себе знать и в общих, и в частных грамматических трансформациях.
Таковы лишь некоторые конкретные материалы (здесь неизбежно ограниченные), позволяющие провести дальнейшую разработку проблемы социального фона грамматики, больше того – проблему социальной детерминации грамматики.
К этим двум проблемам, точнее – к двум аспектам по существу единой проблемы можно подойти и с другой позиции.
Известно, что на грамматику литературного языка вполне допустимо воздействовать, что нисколько не противоречит объективности существования языка, объективности его развития. К сожалению, многие лингвисты, в том числе и такие крупные ученые, как А. Мартине, считают, что понятие объективный и понятие подверженный воздействию несовместимы [264]. Между тем, как показывает история самых разнообразных языков, эти понятия лишь внешне кажутся несовместимыми. По существу же они лишь обогащают друг друга: развиваясь по вполне объективным законам, литературный язык в процессе своего функционирования вместе с тем «обрабатывается», совершенствуется, его категории дифференцируются, уточняются в соответствии с нуждами людей.
В истории русского литературного языка можно выделить, например, конец XVIII и первую треть XIX в., когда грамматика подверглась особенно заметному, сознательному воздействию со стороны ряда выдающихся писателей и прежде всего – со стороны Пушкина. В истории английского языка обращает на себя внимание XVI столетие с его многочисленными грамматическими трактатами, а на рубеже следующего столетия – с текстами Шекспира. Знатоки истории итальянской культуры считают, что в Италии язык сыграл решающую роль в развитии самосознания итальянского народа, причем этот процесс проходил в разные эпохи, в частности, в эпоху Данте (XIV в.) и в эпоху Л. Мандзони (XIX в.). Влияние выдающихся писателей на литературный язык, в том числе и на нормы его грамматики, было во всех перечисленных случаях весьма значительным.
До начала XIX столетия никто из крупных европейских писателей не сомневался, что на язык и его нормы люди могут воздействовать. Менялось лишь представление о том, кáк понимать характер подобного воздействия. Ситуация изменилась в 20-е годы прошлого столетия. Открытие сравнительно-исторического метода и фонетических знаков, не имеющих исключений (как тогда думали), создавало впечатление, что языки функционируют и развиваются совершенно механически. Человек оказывался в стороне от подобных процессов.
Такое убеждение осложнялось, однако, тем, что в эту же эпоху широкое романтическое движение в странах Западной Европы с его культом индивидуального начала и индивидуального творчества противоречило лингвистическим представлениям о будто бы чисто механических законах развития языка. Во второй половине прошлого века эту последнюю точку зрения попытались усилить младограмматики, исследовавшие прежде всего внешние формы языка. Об этом же думают и ортодоксальные структуралисты нашей эпохи, подчеркивающие автономный характер языка, якобы совсем не зависящий от мыслей и чувств людей, говорящих на нем.
Иную картину обрисовывают те современные филологи, которые связывают язык с культурой народа в широком смысле и у которых язык выступает прежде всего как средство общения людей, как средство передачи их мыслей и чувств, намерений и переживаний, убеждений и пожеланий. В такой концепции понятие объективности существования языка и понятия воздействия на язык, прежде всего на его литературную норму, выступают не как контрадикторные понятия, а как понятия, взаимно обогащающие друг друга. Язык оказывается не в изоляции от человека. Язык выступает как органическая часть самого человека во всей его социальной обусловленности.
Когда говорят о связи языка с действительностью, то обычно, как мы уже знаем, все сводят к лексике, точнее – к новым и старым словам. Отдельные слова умирают, становятся архаичными, другие возникают, становятся новыми. На этом чаще всего и ставится точка. Подобное представление о большой, сложной, важной проблеме «язык и действительность» нельзя не признать наивным. Разумеется, лексика показательна. Но, как я стремился демонстрировать, весь язык прямо или косвенно связан с действительностью. Трудность проблемы, однако, в том, что все мы, филологи, еще недостаточно научились подобную связь обнаруживать и тщательно исследовать.
Зная, что в определенном конкретном языке имеется единственное число в грамматике, еще нельзя утверждать, сколько «чисел» ему противостоит. Если же в конкретном языке имеется двойственное число, можно с уверенностью сказать, что в этом языке существует и единственное, и множественное числа. В первом же случае никто не ошибется, предположив, что одно число, как самостоятельная грамматическая категория бытовать не может: ему должно быть что-то противопоставлено. В таких примерах обычно усматривают лишь нежесткость системы любого живого языка [265]. На мой взгляд, здесь важно и другое: как грамматика языка «откликается» на представления, которые имеются в мышлении. Трудность проблемы в том, что на подобные разграничения, подсказанные связью языка с мышлением и с действительностью, разные языки дают