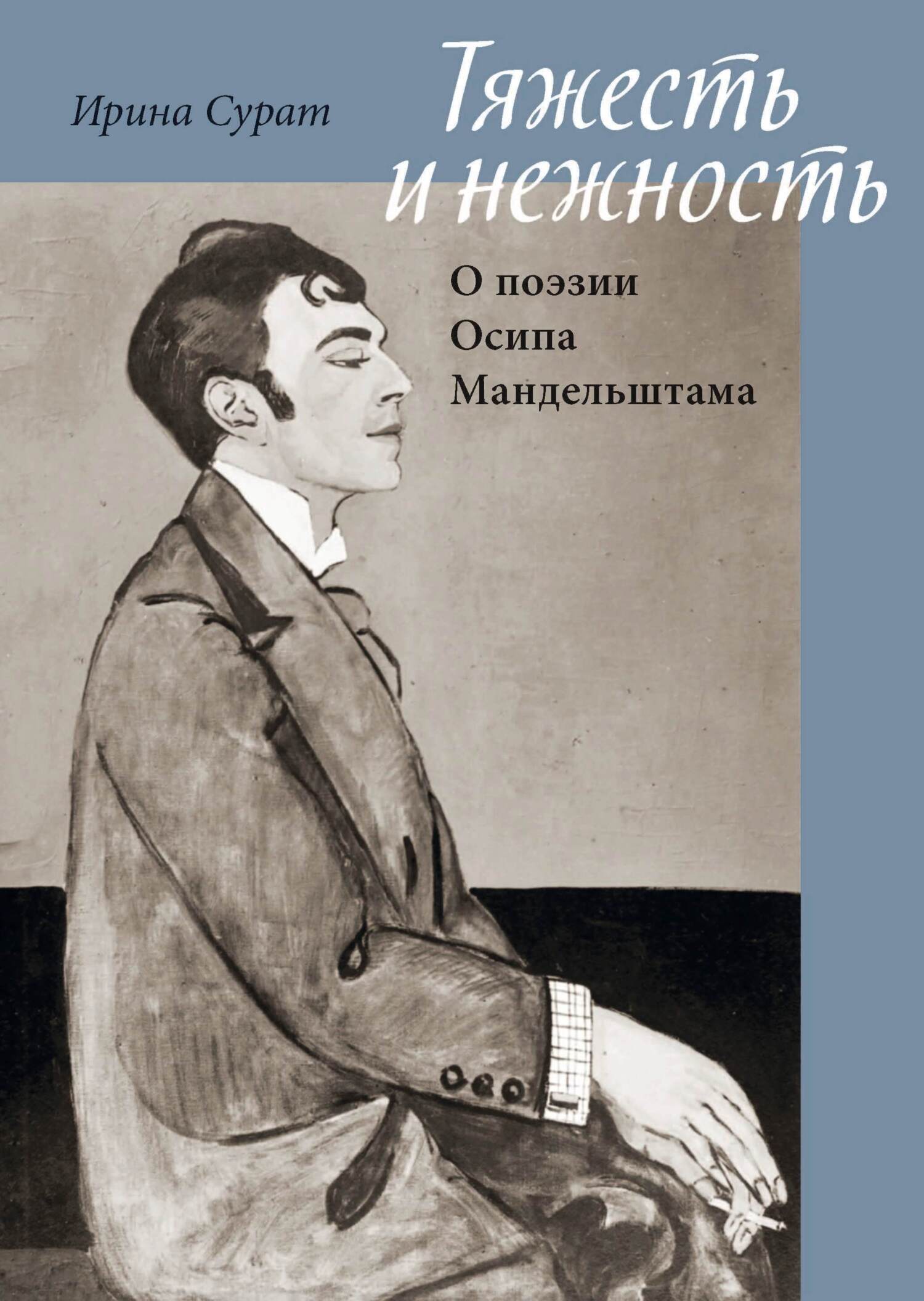2008 года: в ходе раскопок в Великом Новгороде, в земле у стен Десятинного монастыря была обнаружена уникальная находка – бревенчатый сруб из 28–30-ти венцов, датируемый первой половиной XI в. и опознанный археологами как «поруб», т. е. древнерусская тюрьма. Поруб был углублен на 3 метра в землю, его размер – 2,4 на 2,3 метра, внутри две бревенчатых лавки и яма под отхожее место [296]. В таких порубах могли содержаться и политические заключенные (неугодные князья), и должники («долговая яма»). Опускать туда заключенных, действительно, надо было при помощи какого-либо приспособления – лестницы или бадьи на веревке. Именно это сооружение в наибольшей мере соответствует визуально конкретному мандельштамовскому образу.
Разного рода земляные тюрьмы широко практиковались и до сих пор практикуются в мире – современному российскому читателю достаточно напомнить слово «зиндан», вошедшее в наш язык во время двух последних чеченских войн. В русской истории находится немало свидетельств о земляных тюрьмах, и конкретно – о деревянных углубленных в землю срубах, куда заточались, в частности, и князья. Так, по летописным источникам известна судьба князя Всеслава Полоцкого (ок. 1029–1101), одного из героев «Слова о Полку Игореве». Он «захватил и ограбил в 1067 г. Новгород, но вскоре был разбит Ярославичами в бою на реке Немиге. Полагаясь на “крестное целование”, князь встретился с победителями и… был схвачен и посажен в Киеве в поруб – уходящий в землю сруб без окон и дверей, куда узника опускали сверху на веревках и таким же образом подавали ему пищу; заключение в порубе считалось очень суровым. Но просидел Всеслав в порубе недолго. Как только выяснилось, что Изяслав, проиграв битву с половцами на Альте, отказывает киевлянам в оружии и конях, город <…> восстал. Горожане разнесли поруб и провозгласили освобожденного Всеслава князем Киева, на что правнук Владимира имел, по их мнению, все права» [297]. В отличие от Всеслава, псковский князь Судислав, сын великого князя Владимира, просидел в порубе почти четверть века, будучи заточен туда своим братом, Ярославом Мудрым в 1036 г. Оба эти факта заключения князей в поруб упомянуты в «Повести временных лет» [298].
Об источниках познаний Мандельштама в русской истории рассказала Н.Я. Мандельштам в своих «Воспоминаниях»: «В короткий период от тридцатого года до ссылки О.М. вплотную занялся древнерусской литературой. Он собрал летописи в разных изданиях, “Слово”, конечно, которое он всегда очень любил и знал наизусть, кое-какие повести, а также русские и славянские песни в разных собраниях – Киреевского, Рыбникова… Старорусскую литературу О.М. всегда хватал с жадностью и знал и Аввакума, и несчастную княжну, вышедшую замуж за брата царской невесты. На полках появился Ключевский, <…> а также архивные материалы, которые у нас довольно широко издавались <…> Тенишевское училище все-таки дало хорошие знания древнерусского языка и литературы – они как-то в крови были» [299].
Заметим, что речь идет о начале тридцатых годов, когда и было написано «Сохрани мою речь…». Особенно важно в связи с нашей темой упоминание протопопа Аввакума – в другой своей книге Н.Я. Мандельштам назовет его «Житие» «книгой-спутником» Мандельштама [300]. Именно в «Житии» протопопа Аввакума он мог прочитать про земляной сруб в Пустозерском остроге, куда в 1667 году был заключен Аввакум: «Также осыпали нас землею: струб в земле и паки около земли другой струб, и паки около всех общая ограда за четырьми замками; стражие же пред дверьми стрежаху темницы»; тут же упомянута и «плаха» [301]. В этом срубе протопоп Аввакум провел 15 лет, а закончилась его жизнь в другом срубе, не «дремучем», а «горючем» – вместе с единомышленниками он был сожжен в срубе в 1682 г. по указу царя Федора Алексеевича. Все это Мандельштам знал с ранней юности, о чем оставил свидетельство в «Шуме времени»: ученики Тенишевского училища «уважали <…> протопопа Аввакума, чье житие в павленковском издании входило в нашу российскую словесность» – речь идет о биографической книге В.А. Мякотина «Протопоп Аввакум: Его жизнь и деятельность» (СПб., 1906).
Несколько слов о сожжении в срубах. Этот специфический русский вид казни возник при Иване Грозном и применялся вплоть до 70-х годов XVIII века к колдунам, еретикам, старообрядцам, т. е. к разного род врагам церкви [302]. Для казни сооружали небольшую бревенчатую конструкцию, заполняли ее паклей, смолой, берестой или обставляли снаружи снопами соломы и смоляными бочками. Осужденного, как правило, опускали внутрь такого сруба сверху, иногда бросали в уже подожженный сруб. В XVII–XIX вв. срубы использовали старообрядцы для самосожжений – о них-то и писал Блок: «Рубили деды сруб горючий / И пели о своем Христе».
Подобный же сруб как способ казни встречаем в стихотворении Михаила Зенкевича «Князья» из его сборника «Дикая порфира» (1912), подаренного автором Мандельштаму:
Кто стрелой татарской убиенный,
Кто снедаем язвой моровою,
В черной схиме, в простоте смиренной
Все сошли вы к вечному покою.
Веря, что развеют тлен кромешный
Золотые ангельские трубы,
Вы легко вручали прах свой грешный
Смрадной смерти в смоляные срубы.
Как видим, кроме «сруба», здесь есть и другие переклички с мандельштамовским «Сохрани мою речь…» – заглавная тема «князей» и упоминание «стрелы татарской», но по общему смыслу стихотворения Зенкевича и Мандельштама не близки.
«Сруб» в поэзии Мандельштама почти всегда связан с насилием, обреченностью, невозможностью спасения. Единственным исключением является «деревянный, пахучий… сруб» из бравурного стихотворения «Дом актера» (1920), написанного по заказу к открытию кафе-кабаре в Феодосии, – во всех остальных случаях семантика «сруба» колеблется между тюрьмой и казнью. В «Декабристе» (1917) «сруб» выступает символом неволи ссыльного: «Честолюбивый сон он променял на сруб / В глухом урочище Сибири»; в стихотворении «Холодок щекочет темя» (1922) речь идет о собственной неизбежной насильственной гибели: «И вершина колобродит, / Обреченная на сруб» – в последнем случае имеется в виду не строение, а действие, метафора казни топором. И топор, и определение «дремучий» сопровождают образ сруба в стихотворении 1920 года:
За то, что я руки твои не сумел удержать
За то, что я предал соленые нежные губы,
Я должен рассвета в дремучем акрополе ждать —
Как я ненавижу пахучие древние срубы!
Здесь герой чувствует себя невольником, заключенным в ненавистный сруб и ожидающим скорее гибели, чем освобождения – этот сруб он воспринимает как расплату за слабость, за предательство (ср. «Сохрани мою речь…»). Приведенные примеры позволяют определенно говорить об устойчивой семантике «сруба» в поэзии Мандельштама; попутно заметим (к вопросу о звуковом иконизме Мандельштама), что образ «сруба» почти