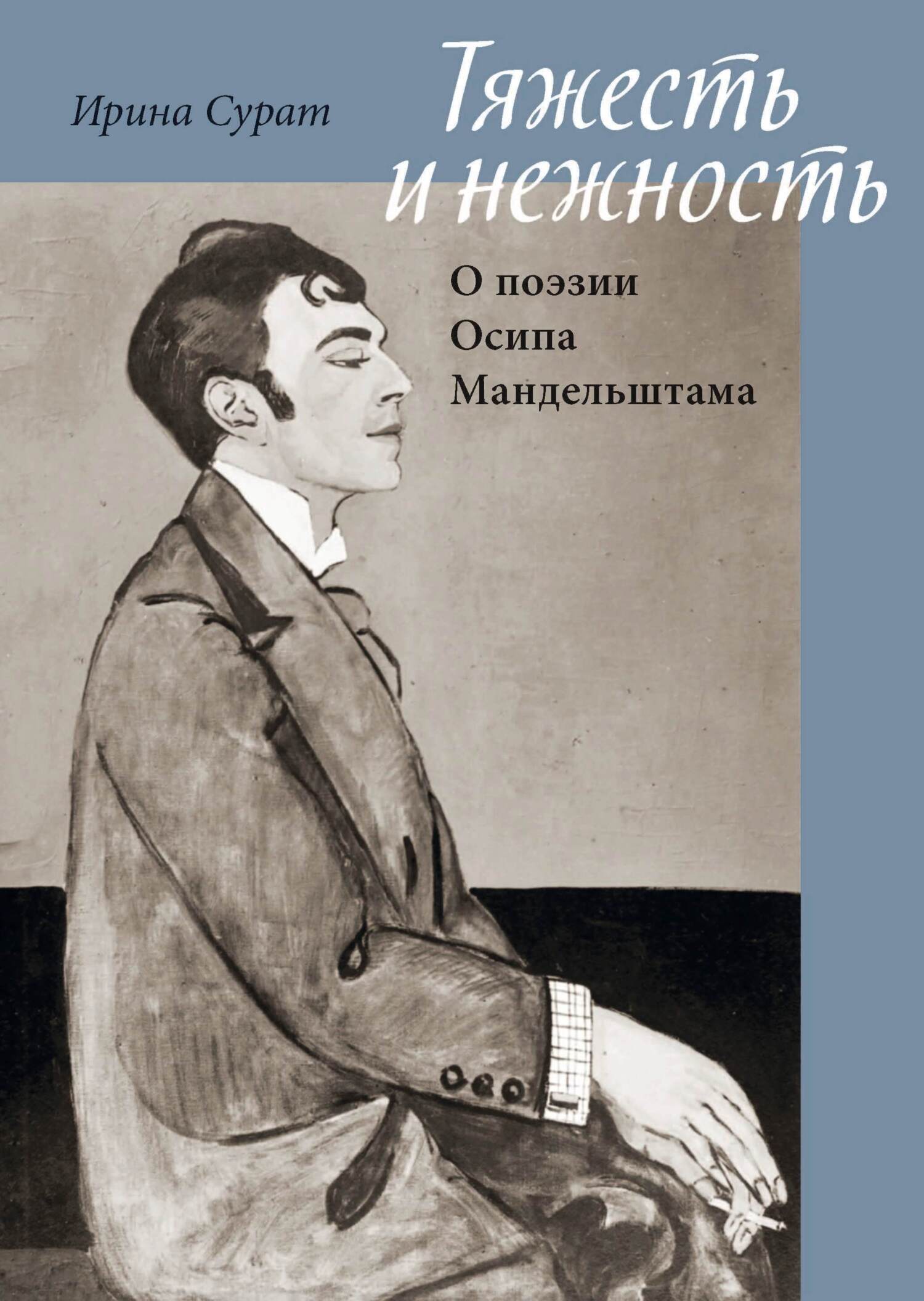в рай. Так минимальными поэтическими средствами создается глубокое смысловое пространство этих стихов, открывающееся при подключении горизонтальных, собственно мандельштамовских контекстов.
«Дремучие срубы» – один из центральных образов мандельштамовского стихотворения 1931 года:
Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма,
За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда,
Как вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима,
Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда.
И за это, отец мой, мой друг и помощник мой грубый,
Я – непризнанный брат, отщепенец в народной семье —
Обещаю построить такие дремучие срубы,
Чтобы в них татарва опускала князей на бадье.
Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи —
Как, прицелясь на смерть, городки зашибают в саду, —
Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе
И для казни петровской в лесах топорище найду.
Об этом стихотворении немало написано, есть, в том числе, и специальные работы [288], но загадка «дремучих срубов» сохраняется, как сохраняется и главный вопрос в его целостном понимании. Во второй и третьей строфах речь идет о палачах и жертвах, и главный вопрос состоит в том, с кем солидаризируется поэт – с «татарвой» или с «князьями», и для чьей казни он обещает найти «топорище». М.Л. Гаспаров считал, что «концовка двусмысленна – топорище он ищет то ли на казнь врагу, то ли самому себе» [289]. Иосифу Бродскому, напротив, было ясно, что «топорище» поэт обещает найти для собственной казни, что он готов помочь своим палачам [290] (ради чего-то более важного, чем сохранение своей жизни, добавим мы от себя). Но само по себе «топорище» вопросов не вызывает: в стихотворении определенно сказано, что это орудие казни. А вот «дремучие срубы» – и поэтический мотив, и стоящая за ним реалия – породили множество толкований, предположений, ассоциаций исторических и литературных.
М.Л. Гаспаров полагал, что в 1-й, 2-й и 3-й строфах стихотворения речь идет об одних и тех же «деревянных срубах»: «в 1-й строфе на дне их светится звезда совести (образ из Бодлера), во 2-й расовые враги топят в них классовых врагов, в 3-й они похожи на городки, по которым бьют» [291]. Сразу скажем, что каждое из этих толкований не бесспорно и может быть с успехом заменено другим – их породило стремление исследователя увидеть в этом стихотворении однонаправленный лирический сюжет, единый «сквозной его образ» [292]. Однако мандельштамовская поэтика предполагает и совмещение разнонаправленных сюжетов – то, что он несколько раз сформулировал в отношении поэтики Данте: «Дант по природе своей колебатель смысла и нарушитель целостности образа. Композиция его песней напоминает расписание сети воздушных сообщений или неустанное обращение голубиных почт. <…> Для того чтобы прийти к цели, нужно принять и учесть ветер, дующий в иную сторону. Именно таков и закон парусного лавированья»; по существу о том же говорят две другие метафоры, описывающие поэтику Данте – прыжки «с джонки на джонку» (глава I «Разговора о Данте») и полет «летательных машин», конструирующий и спускающих на полном ходу другие такие машины (глава IV «Разговора о Данте»). Если «принять и учесть» эти мандельштамовские подсказки как ключ к его собственной поэтике, можно увидеть более сложную, нелинейную логику образного развития этого и многих других его стихотворений.
«Новгородские колодцы» первой строфы – это, условно говоря, «ветер, дующий в иную сторону» от основного сюжета. Они появляются в сравнении, как метафора поэтической речи [293], чтобы дать место звезде Рождества – теме жертвы и искупления. Но явившись в стихах как будто по касательной, «новгородские колодцы» вызывают образ других «колодцев» – тех самых «дремучих срубов», происхождение и смысл которых до сих пор не поддается внятному истолкованию. Впрочем, полной внятности ждать не приходится – там, где исследователь поэзии Мандельштама настаивает на одномерном, однозначном прочтении, он почти наверняка находится на ложном пути, обрекает себя на ошибку. Мандельштам – поэт высокой точности, но это точность особого рода. Он метит и точно попадает сразу в несколько целей, у него «любое слово является пучком, и смысл торчит из него в разные стороны, а не устремляется в одну официальную точку» («Разговор о Данте») – исходя из этого и рассмотрим интересующий нас образ.
Большинство исследователей склоняется к тому, что «дремучие срубы» означают место казни. Омри Ронен писал: «Татарско-петровская казнь в стихотворении, посвященном русской речи, вызывает в памяти, в частности, образ самосожженцев у Блока:
Задебренные лесом кручи:
Когда-то там, на высоте,
Рубили деды сруб горючий
И пели о своем Христе.
У Мандельштама “дремучие срубы” колодезной – родниковой или рудничной – крепи (отсюда историческая ассоциация с убийством великих князей в 1918 г., скорее, чем с монгольским игом) заменяют “горючий сруб” староверов, а отражение рождественской звезды благовестия в воде новгородский колодцев – ту весть об огненной купели, которую несет у Блока болотная вода…» [294]. Блоковские ассоциации можно принимать или не принимать, а вот ассоциация с алапаевскими мучениками, сброшенными в шахту в 1918 года, открывает целый пласт актуальных, исторических и мифопоэтических смыслов этого образа, его связь с большевицкой практикой подвальных расстрелов и других видов «низводящей» казни – в противоположность традиционной казни-восхождению (ср. «взойти на эшафот», «взойти на костер») [295]. Открывается здесь и тема казни Гумилева в ее связи с известной Мандельштаму ахматовской фразой во время их последней встречи: «По такой лестнице только на казнь ходить» (ср. «Сбегали в гроб ступеньками без страха…» – «К немецкой речи», 1932). Кроме того, называя себя «непризнанным братом», Мандельштам заставляет нас вспомнить и судьбу своего соименника, библейского Иосифа, брошенного братьями в колодец или, в русском переводе, в «ров без воды», на верную смерть. Как видим, два стиха о «дремучих срубах» – пример высочайшей суггестии, столь характерной для поэтики Мандельштама.
Обозначив спрессованные в этом образе смысловые пласты, мы до сих пор оставались в рамках представления о том, что «дремучие срубы» так или иначе связаны с казнью. Одно только мешает утвердиться в этом представлении: если речь идет о казнях, то почему казнимых опускают на бадье? Ведь их можно просто сбросить, как реально и поступали во все века палачи со своими жертвами. Тут кроется по меньшей мере какая-то двусмысленность, какая-то дополнительная сложность. Разобраться в ней помогает археологическое открытие, сделанное летом