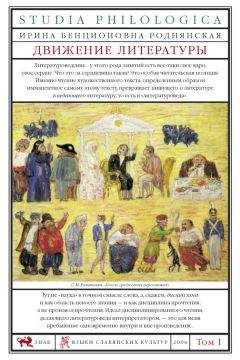Ознакомительная версия.
Если (как показал современный автор[169]) в Пушкине были явлены начатки пришедших после него поэтов, – потому что был он неким Единым, хранящим в себе всю дальнейшую множественность путей и достижений, – то такое же чудо «предсуществования» без натуги расслышим и в Блоке. До боли волнует в нем неожиданный голос Есенина – предсмертный, вольно-тоскливый:
Много нас – свободных, юных, статных, —
Умирает не любя…
Или: поразительна – на фоне символистско-акмеистской программной вражды – уверенная, вовсе не с ветру подхваченная ахматовская конкретность Блока:
Ты хладно жмешь к моим губам
Свои серебряные кольцы,
И я – который раз подряд —
Целую кольцы, а не руки…
И в том же стихотворении – совсем уж ахматовское запевающее причитанье, которому еще предстояло прозвучать в ее собственных стихах:
Прощай. Возьми еще колечко,
Оденешь рученьку свою
И смуглое свое сердечко
В серебряную чешую…
Идя навстречу новому художественному мирочувствию, Блок высвободил русскую поэтическую речь из чересчур жестких пут логики (в такой поэзии «все высказывается вслух», – замечал он с отталкиванием). Он нарушил границу между «я» и «не-я» и утвердил с миром связь не «партнерскую», а какую-то более слитную, экстатическую, когда «перья страуса склоненные в моем качаются мозгу», а «очи синие бездонные цветут на дальнем берегу», и это все в одном круге, в одном кольце бытия-переживания. Причинно-следственную соподчиненность Блок (имея предшественником Фета) стал заменять стремительными выдохами перечислений, обымающими на долгом, «как у Патти» (Ф. Сологуб), дыхании мир и чувство в едином потоке:
Кругом – снега, трамваи, зданья,
А впереди – огни и мрак.
И этот мир тебе – лишь красный облак дыма,
Где что-то жжет, поет, тревожит и горит!
Тем самым Блок создал новые интонационные очертания поэтического образа – то, что у Мандельштама истончилось в ассоциативные всплески, в ныряния и выныривания ласточек-слов («Россия, Лета, Лорелея» или: «Я так боюсь рыданья аонид, / Тумана, звона и зиянья!»), а у Пастернака уплотнилось в предметную толчею и пестрядь мира: «Со мною люди без имен, деревья, дети, домоседы».
Блок «Двенадцати» дал норму, звук и строй русскому поэтическому экспрессионизму, поэтике уличной многоголосицы, припевок, команд и выкриков, поэтике монтажа и, как сказали бы сейчас, поп-арта. Устрояющей силой своего дара ввел ее в область «большого стиля». Бросающее в дрожь хлебниковское «Мы писатели ножом» (поэма «Настоящее») родилось уже после «ножичка» из «Двенадцати». И недаром фигура Блока возникает в поэме Маяковского «Хорошо!» своего рода персонифицированным эпиграфом или тайным посвящением.
Блок нашел и передал русской поэзии XX века средства оформления словом новой мировой динамики и открыл для нашей поэтической эпохи дорогу классической общезначимости. Русское стиховое слово звали на свой путь Вяч. Иванов с его теоретизирующим талантом, В. Хлебников с его гениальным филологическим безумием; звали на путь священноглаголания, таинственного корнесловия, словесной магии, звали отделиться и стать «языком богов» – или богемы. Но русская поэзия не покинула путь Блока – в целом пошла за светочем классического (в широком смысле) искусства.
Да, Блок пришел в наш век с пушкинской миссией. Но, несмотря на свой мирообъемлющий дар, не до конца отдал ей силы, ибо всю жизнь был томим чувством иного посланничества. И лишь «уходя в ночную тьму», объединил он пушкинское и свое призвание в речи о назначении поэта и заговорил о союзе, в веках связующем «сыновей гармонии»…
В бурном письме Андрею Белому от 15–17 августа 1907 года Блок прибегает к вызывающе откровенным самохарактеристикам. В частности, он пишет: «Драма моего миросозерцания (до трагедии я не дорос) состоит в том, что я – лирик. Быть лириком – жутко и весело. За жутью и весельем таится бездна, куда можно полететь – и ничего не остается. Веселье и жуть – сонное покрывало. Если бы я не носил на глазах этого сонного покрывала, не был руководим Неведомо Страшным, от которого меня бережет только моя душа, – я не написал бы ни одного стихотворения из тех, которым Вы придавали значение». Многое в этом признании расшифровывается в контексте статьи Блока «О лирике» (тот же 1907 год) и тогдашней его причастности к «мистическому анархизму»: веселая жуть провала-полета, демон-лирик с покрывалом на очах, который возвышает и губит людей тоской по невозможному. Через четыре года Блок напишет Андрею Белому: «… отныне Я не лирик», имея в виду готовность жить под ясной звездой ответственности и долга. Но с лирическим полетом «над бездной» он, впрочем, так и не расстанется. И, главное, вновь поведет речи о «неведомом и страшном» Направителе и Вожатом этого, казалось бы, «бесцельного» полета. Его свидетельства о такой персонифицированной силе – из числа самых выразительных – стихи «К музе» и «Ты – буйный зов рогов призывных…» (декабрь 1912 и декабрь 1913 годов). Второе стихотворение, менее популярное, цитирую полностью.
Ты – буйный зов рогов призывных,
Влекущий на неверный след,
Ты – серый ветер рек разливных,
Обманчивый болотный свет.
Люблю тебя, как посох – странник,
Как воин – милую в бою.
Тебя провижу, как изгнанник
Провидит родину свою.
Но лик твой мне незрим, неведом.
Твоя непостижима власть:
Ведя меня, как вождь, к победам,
Испепеляешь ты, как страсть.
Эти стихи жили с Блоком около пяти лет (первоначальный набросок относится к июню 1908 года и совпадает с работой над циклом «На поле Куликовом»); в черновике было название «Кому-то», в первой публикации – «Неотступное».
Лирику Блока драматизирует множество полуперсонажей, «призраков бледноликих», неопределенных «кто-то», много «неотвязных», «белых», покрывающих зеркала «необъятною рукою». К третьей книге они сгущаются в более опознаваемых персон традиционной демонологии: «вражью силу», «соблазнителя», даже «чертей» и прочее. Но ни с одним из этих искусительных духов нельзя отождествить Того (или Ту), кого поэт в ряде последовательных образов сближает с зовом, ветром, болотным огнем, посохом, милой, родиной, вождем, страстью. Взаимоисключающие сравнения создают вокруг этого символического лица непроницаемую ограду непостижимости, но каждое из них – нить, ведущая к целым лирическим созвездиям, смысловым сгусткам в мире Блока, и прежде всего к его стихам о России.
Пройдемся по строфам. В первой подытожен образ «болотной», «задебренной» Руси с «ржавым» потаенным «зачалом рек», Руси равнинной, стылой и колдовской «необычайной», но и страшной, Руси «заговоров и заклинаний», смуты и чары, где «под заревом горящих сел» «ведьмы тешатся с чертями / В дорожных снеговых столбах» и вещий конь остерегает сбившегося путника; «В тумане да в бурьяне, / Гляди, – продашь Христа / За жадные герани, / За алые уста». Вторая строфа глядится в еще один, просиявший в поэзии Блока лик Руси, России: воинский и страннический подвиг, высота нерушимых обетов, жертвенной славы. Прямые переклички со стихотворением «Я вырезал посох из дуба», посвященным Прекрасной Даме в ее сказочно-русском обличье «Царевны», и со второй и третьей главками куликовского цикла: «Помяни ж за раннею обедней / Мила друга, светлая жена!» и «Был в щите твой лик нерукотворный / Светел навсегда». В третьей строфе поэт, пораженный несомненным для него совмещением первого и второго видений, отдается во власть неведомому лику с бранной решимостью («… ведя меня, как вождь, к победам») и вакхическим безволием («… испепеляешь ты, как страсть»).
Но Ты, к кому все это обращено, не сама Русь (провижу, как родину). Это Ты – тот «демон» или «гений», в котором поэты издавна олицетворяли свою чуткость к дыханию, токам, поветриям жизни, свое вдохновение, некое начало на грани объективного и субъективного, связывающее поэта с окрестным миром. Иначе говоря, стихотворение, как можно догадаться, адресовано музе Блока. Это она, неотлучный его вожатый, эстетически преломила в себе русскую судьбу, но преломила ее с «испепеляющей» двойственностью. Поэт покоряется велениям этой музы как голосу свыше – и как голосу из бездны.
После этих напряженных ямбов обратимся на год вспять, к податливо льющимся анапестам. Стихотворение «К музе» привыкли относить на счет «демонических» творений поэта («проклятье заветов священных», «поругание счастия», «… смеешься над верой»). И та, кто «ангелов… низводила, соблазняя своей красотой», вероятно, заслуживает ранга демоницы. Однако о чем вот эти строки?
Я не знаю, зачем на рассвете,
В час, когда уже не было сил,
Не погиб я, но лик твой заметил
И твоих утешений просил?
Я хотел, чтоб мы были врагами,
Так за что ж подарила мне ты
Луг с цветами и твердь со звездами —
Все проклятье своей красоты?
Все движение Блока от первой книги составленного им лирического трехтомника ко второй – это в границах его же символики, движение с заката в ночь, «из света в сумрак переход». Его Дева, Заря, Купина, его Зоревая ясность, героиня первого тома, – заря вечерняя, и, если не случится чуда и не откроется «беззакатная глубь и высь», ее должен затопить сине-лиловый ночной сумрак. В таких световых фигурах Блок, оглядываясь назад, изображает свой путь в докладе о кризисе символизма (1910), точно так же живописал он этот путь в стихах. И, как в лад настроенный инструмент, вторил своему другу родной, доверенный человек Евг. Иванов, по чьим словам, Блок времени «Распутий» «бодро, решительно двинулся в ночь». Соответственно, в третьем томе (и в стихотворении «К музе», его открывающем) «рассвет», «железный» день – это жестокое отрезвление после ночного пиршества в обществе сине-лиловой Незнакомки; он освещает «унижение» (одноименное стихотворение тоже начинается с рассвета), создает мизансцену раскаяния, возмездия («Шаги командора» – опять рассвет!) и указывает неумолимым перстом на «нищий путь возвратный» как на единственно спасительный исход. Тут-то герой блоковской лирической трилогии, герой-поэт, рассвета не выдерживает, от «резкого, неподкупного света дня» содрогается; и он просит утешения. У кого же в этой поистине фаустовской ситуации? У демона, конечно. Но это особый демон – демон искусства, а точнее, демон артистизма.
Ознакомительная версия.