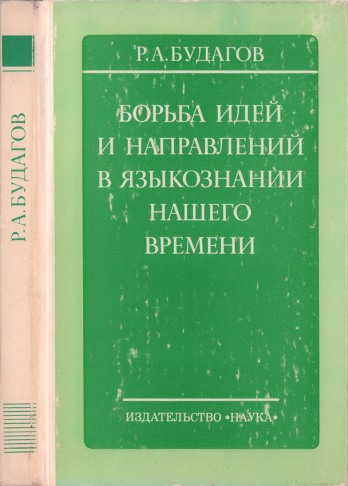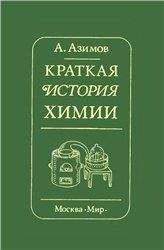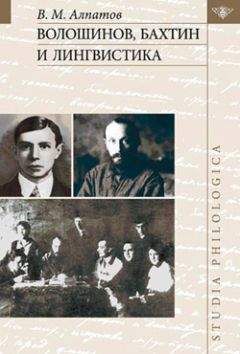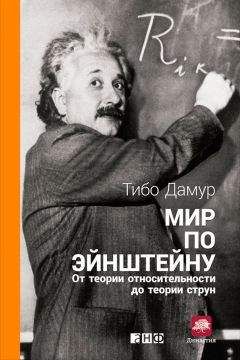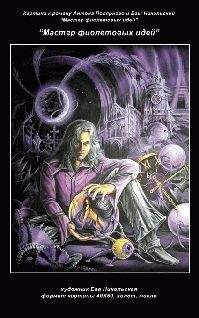произведениях Г. Ибсена, в том числе и в его «Пер Гюнте», встречается множество диалектизмов, в более поздних сочинениях писателя их уже почти нет совсем. Вся проблема нормы сводится к несущественным терминологическим спорам [304]. До последнего времени отрицали возможность языкового планирования и американские лингвисты, во всяком случае многие из них. Считалось, что планирование будто бы противоречит объективности существования языка. Положение резко изменилось примерно за последние 10 – 15 лет. Стали публиковаться многочисленные сборники, посвященные планированию языка, и если некоторые из них и выходят с вопросительным знаком в самом названии («Возможно ли планирование языка?»), то ответ на подобный вопрос дается уже не отрицательный, а положительный, нередко весьма положительный (разумеется, планирование языка и возможно, и необходимо) [305].
Интерес к языковому планированию возник в американской лингвистике в связи с общим интересом к социологии языка. Обе эти проблемы оказались для американских ученых новыми. И в обоих случаях здесь не было хоть сколько-нибудь определенных методологических обоснований. Проблема планирования обычно опирается на такой несколько наивный постулат: все люди влияют на язык, поэтому планирование возможно. Здесь нет даже попытки разграничить главное от неглавного, существенное от случайного. Нет и общей постановки вопроса о принципах языкового планирования.
Совсем иначе эта проблема изучалась в истории советской филологии. В нашей многонациональной стране, где немало языков не имело своей письменности до Октябрьской революции, проблема языкового строительства и планирования приобретала не только теоретическое, но и практическое значение. Приобщение миллионов людей к грамотности требовало решения множества вопросов, в частности, и вопросов, относящихся к норме различных языков. Даже русский язык с его многовековой культурой стал нуждаться в своеобразном воздействии в различных своих сферах в связи с тем, что русским языком стали овладевать представители самых различных национальностей. Так возникла не только проблема языкового планирования, но и тесно связанные с нею проблемы языкового строительства и языковой политики [306].
В 1931 г. Л.П. Якубинский убедительно показал, почему тезис Соссюра о «невозможности языковой политики» является ошибочным. Соссюр разделял убеждение младограмматиков, согласно которому язык, видоизменяясь во времени вместе с тем не может изменяться под воздействием людей, на нем говорящих. Но в отличие от младограмматиков Соссюр ставил эту проблему острее: он связывал ее с понятием лингвистического знака, который недосягаем (intangible), но отнюдь не неизменяем (inaltérable) [307]. Л.П. Якубинский на целом ряде примеров показывает, что парадокс Соссюра остается парадоксом. История свидетельствует: люди в самом процессе функционирования языка оказывают на него воздействие и в его общенародном виде, и в его литературной форме. Хотя подобное воздействие легче показать на материале литературной формы языка (уже в простейших рекомендациях типа: «говорите так – не говорите так»), оно же обнаруживается в глубоких процессах формирования и развития общенародных языков [308]. О.С. Ахматова права, подчеркивая, что в ходе самого развития языка усиливается и расширяется воздействие людей на их родной язык [309].
Не следует забывать, что анализируемая проблема во многом обусловлена социально. В социалистическом обществе формы и виды воздействия людей на язык обычно оказываются гораздо более последовательными, гораздо менее случайными, чем в обществе феодальном или капиталистическом.
Вместе с тем никак не хотелось бы упрощать весьма сложную проблему. В середине прошлого столетия Макс Мюллер, относя лингвистику к наукам о природе, ссылался на факт невозможности «сделать язык» так, как люди «делают (строят) дома», «сочиняют романы и поэмы» [310]. Разумеется, к такой примитивной аргументации в наше время теперь уже никто не прибегает. И все же возражения против возможности воздействия людей на язык (в его многообразных разновидностях) до сих пор выдвигаются учеными, в том числе и выдающимися исследователями. Основной аргумент оказывается при этом таким (он совсем не похож на аргумент Макса Мюллера): в самом процессе воздействия есть что-то для языка искусственное. Даже такой филолог, как В.В. Виноградов, иногда прибегал к подобному аргументу [311]. Разумеется, история отдельных языков знает немало примеров, когда воздействие людей на язык по тем или иным, обычно социальным, причинам становилось для языка, для его литературной нормы, нежелательным, приводило к отрицательным последствиям. Но следует строго различать два, принципиально различных явления: самую возможность воздействия людей на язык и различные частные случаи подобного воздействия – благоприятные или неблагоприятные для дальнейшей судьбы каждого конкретного языка.
В целом для русского и позднее советского языкознания (и шире – для всей нашей филологии) характерно признание важной роли культуры языка – понятия, неразрывно связанного с отношением людей к своему родному языку. Об этом, в частности, прекрасно писал Л.В. Щерба в 1923 г. в предисловии к первому выпуску сборников «Русская речь» [312]. При этом необходимо учитывать, что вся современная культура, в том число и культура языка, становятся все более и более результатами сознательной деятельности человека.
Вместе с тем нельзя не считаться с тем, что здесь существует и прямо противоположное мнение. Для всех, кто рассматривает язык как жесткую автоматическую структуру, воздействие людей на подобную структуру заранее признается невозможным.
«Не мы говорим на языке, – заявляют сторонники подобной доктрины, – а язык дает нам возможность разговаривать» [313].
Защитники такого тезиса не хотят считаться с тем, что конкретные факты из истории и теории разных языков опровергают их утверждение. Как сейчас будет сделана попытка показать, концепция жесткой автоматической структуры языка противоречит человеческой природе языка и его социальной функции.
Но если в этом случае человек оказывается совершенно в стороне, то не менее опасной для самого человека становится теория, внешне как будто бы все сводящая к человеку, а по существу превращающая его в демиурга действительности. Современный итальянский лингвист Л. Розьелло утверждает:
«Мы больше не верим в романтическую идею народа-языкотворца, формирующего национальный язык. Лингвистические системы всегда создаются чьей-либо целенаправленной волей: ее обедняют, фиксируя в виде нормы» [314].
Здесь тоже уже знакомое нам стремление поставить проблему с ног на голову и огорошить читателей очередным парадоксом. О какой «целенаправленной воле» может идти речь, если даже неизвестно, на что она направлена? Не говорю уже о противопоставлении «народа-языкотворца» и отдельных его представителей, как будто бы подобные представители не являются частью самого народа? В этом мнимо революционном суждении все остается неясным: ни то, кем же собственно создается язык, ни то, как же «целенаправленная воля» воздействует на язык, если по ее же мановению создается сам язык? Ко всему прочему, всякая лингвистическая норма рассматривается только со знаком минус.
Можно было бы не останавливаться на подобного рода декларациях, если