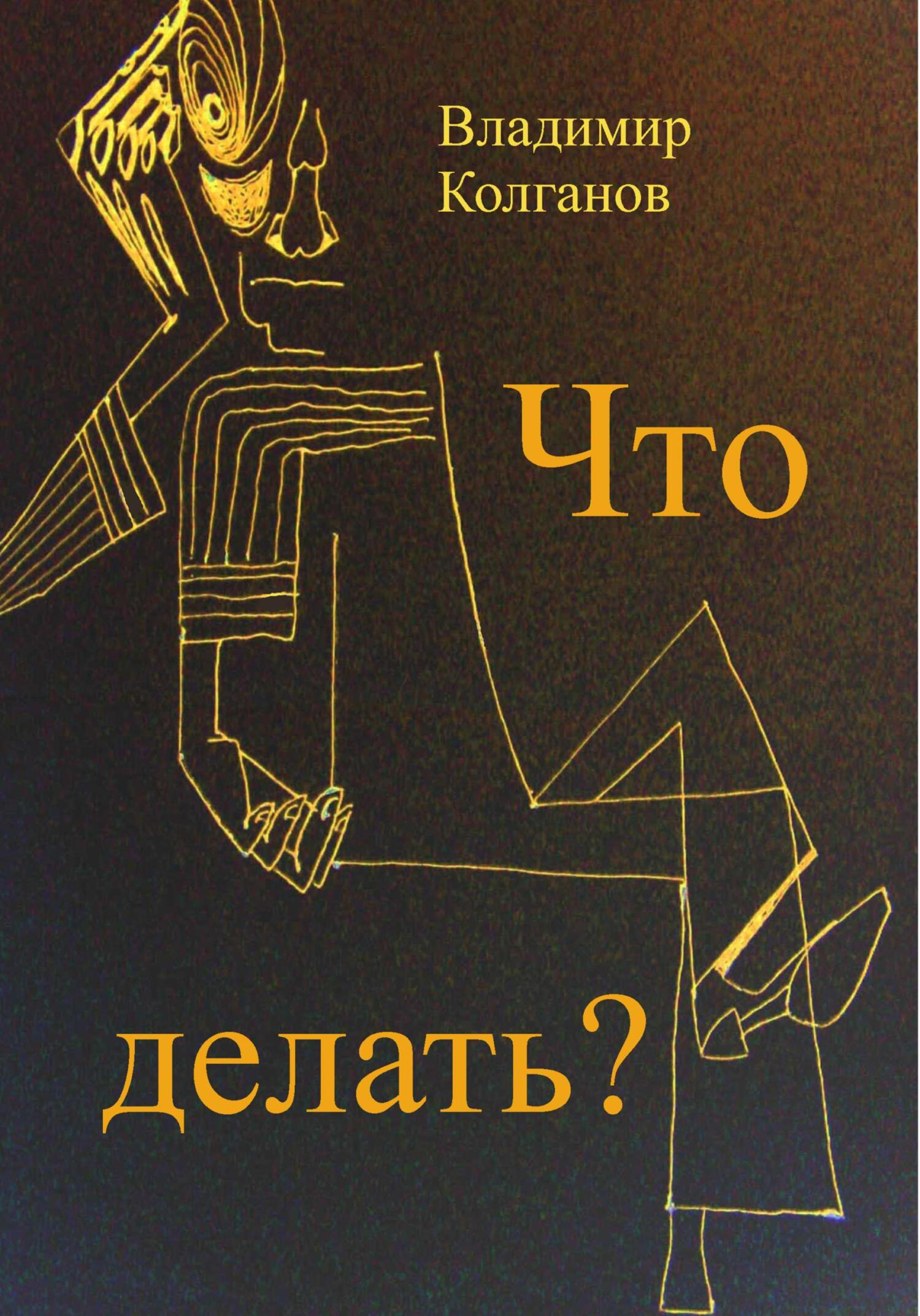а скорее с печальной интонацией. Уже название пьесы о многом говорит: «Самоубийца». Вот несколько впечатляющих отрывков:
– Вы это зачем же, молодой человек, такую порнографию делаете? Там женщина голову или даже еще чего хуже моет, а вы на нее в щель смотрите.
– Я на нее, Серафима Ильинична, с марксистской точки зрения смотрел, а в этой точке никакой порнографии быть не может.
Ну не даёт Эрдману покоя эта пресловутая «точка»! И снова:
– Что случилось?
– Егорка до точки дошел.
– Что ты, мамочка, до какой?
– До марксистской, Мария Лукьяновна…
Далее следует более рискованный пассаж:
– Я считаю, что будет прекрасно… если наше правительство протянет руки.
– Я считаю, что будет еще прекраснее, если наше правительство протянет ноги.
Ещё несколько фраз, но уже без комментариев:
«В смерти прошу никого не винить, кроме любимой советской власти».
«Я сейчас умираю. А кто виноват? Виноваты вожди, дорогие товарищи».
И вот уже главный герой чуть ли не в истерике. Поэтому и достаётся от него всем: и Марксу, и обитателям Кремля:
– Дайте Кремль. Вы не бойтесь, не бойтесь, давайте, барышня. Ктой-то? Кремль? Говорит Подсекальников. Под-се-каль-ни-ков. Индивидуум. Ин-ди-ви-ду-ум. Позовите кого-нибудь самого главного. Нет у вас? Ну, тогда передайте ему от меня, что я Маркса прочел и мне Маркс не понравился. Цыц! Не перебивайте меня. И потом передайте ему еще, что я их посылаю…
На что рассчитывал Эрдман? Что его пьесу встретят на «ура»? В какой-то степени он оказался прав – Мейерхольд со Станиславским готовы были текст пьесы друг у друга вырывать из рук, только бы не досталась конкуренту. Однако Мейерхольд не прочувствовал ситуации – когда спектакль показали на закрытом просмотре комиссии во главе с Лазарем Кагановичем, на дворе был 1932 год, уже свирепствовали и РАПП, и Главрепертком, предшественник Главлита. Поэтому такой же откровенно сатирический спектакль, как и его «Мандат», теперь никто не позволил бы поставить. Мейерхольд всё же попытался, но дело не пошло дальше этого просмотра.
Пьесу рассчитывал спасти Станиславский, затенив некоторые очень уж откровенно «антисоветские» места, но даже ему не удалось добиться разрешения начальства. Убийственным для пьесы стало мнение руководства Главреперткома:
«Пьеса полна двусмысленных ситуаций. Она как будто стремится дать сатиру на обывателей, мещан, внутри эмигрантствующих интеллигентов, но построена таким образом, что антисоветские сентенции и реплики, вложенные в уста отрицательных персонажей (а отрицательные персонажи все действующие лица), звучат развернутым идеологическим и политическим протестом субъективного индивидуализма и идеализма против коллектива, массы, пролетарской идеологии… Пьесу в ее нынешнем виде можно без единой помарки ставить на эмигрантских сценах. Ибо вместо осмеяний внутренней эмигрантщины и обывательщины она выражает, хотя и в завуалированной форме, эмигрантский протест против советской действительности».
Как ни прискорбно, но против этого трудно возразить – скрытый смысл пьесы был всем предельно ясен, только одним это нравилось, другие считали это неприемлемым.
Чего ему не хватало? Любимец женщин, баловень первого успеха, «мастер реплик и реприз» Николай Эрдман лез прямо на рожон, не понимая «сущности текущего момента». Видимо, была внутренняя потребность, он вдруг почувствовал, что его путь – это завуалированный протест против социалистической действительности. Но почему? С Булгаковым и его «Собачьим сердцем» всё более или менее ясно. Бывший офицер белой армии, хотя и в должности врача, он с сожалением расстался с прежними надеждами. Когда-то рассчитывал выйти в люди после женитьбы на дочери действительного статского советника, затем многое сулила романтическая связь с красавицей княгиней. Всё это минуло, а новая власть не сулила ничего, кроме бесплодного хождения по редакциям журналов и издательств, да забот о добывании средств на пропитание. Поэтому и выбрал себе профессию юмориста-обличителя, высмеивающего нравы современников. Впрочем, даже завуалированных выпадов против власти он никогда не допускал, и только в 1937 году как бы «прозрел» – тогда и написал окончательный вариант главы «Великий бал у сатаны» из своего знаменитого романа. Да и то ведь – так всё зашифровал, что потребовалось семьдесят лет, чтобы в этом разобраться.
Причину оппозиционных взглядов Эрдмана следует искать и в его окружении, и в родословной. В 1919 году имажинисты, к которым примыкал в ту пору Эрдман, потребовали «отделения государства от искусства». Идеолог этого направления Шершеневич в своей статье писал:
«Государству нужно для своих целей искусство совершенно определенного порядка, и оно поддерживает только то искусство, которое служит ему хорошей ширмой. Все остальные течения искусства затираются. Государству нужно не искусство исканий, а искусство пропаганды… Мы открыто кидаем свой лозунг: Долой государство! Да здравствует отделение государства от искусства!»
Надо полагать, что юный Эрдман вполне серьёзно воспринял эту декларацию и даже впоследствии попытался воплотить её в жизнь весьма своеобразным способом. Что же касается происхождения Николая Эрдмана, то нам об этом известно лишь немногое. Отец, Роберт Карлович – выходец из прибалтийских немцев, почётный гражданин города Москвы. Не исключено, что был торговцем – люди этой профессий имели право на такое звание. Эрдманы жили и в Петербурге – кто-то из них владел портняжной мастерской, кто-то кожевенной. Была там и более солидная фирма – «К. Эрдман», картонажи и футляры. Кто знает, может быть, эту фирму основал дед Николая Эрдмана. Пожалуй, можно утверждать, что Эрдманы жили в те времена совсем не бедно – все современники в один голос утверждали, что Николай Робертович всегда был одет с иголочки. Да он и сам закончил коммерческое училище, намереваясь стать торговцем. Да вот не повезло – после октября семнадцатого пришлось осваивать новую профессию, где вскоре его ожидал успех.
Кстати, хотелось бы разобраться, кому пьеса Эрдмана «Мандат» всё-таки понравилась, помимо Всеволода Мейерхольда и поклонников его таланта. Иосиф Прут в своих воспоминаниях писал о впечатлении, которое произвела читка пьесы в редакции «Крестьянской газеты»:
«Присутствовали: главный редактор Семен Урицкий, его зам. Николай Одоев (Тришин), Андрей Платонов, Михаил Шолохов и я. Успех – огромный. Полное благословение.
– Искренне, по-доброму завидую, – сказал Андрей Платонов.
– Да, сильная штука!– поддержал его Шолохов, в ту пору совсем молодой, начинающий писатель, но уже приступивший к работе над материалом о событиях недавнего прошлого на Дону».
Надо сказать, что кроме Прута никто ничего подобного об отношении двух этих писателей к пьесе Эрдмана не написал. Мне кажется, что тут мемуариста подвела память – не мог убеждённый коммунист Платонов хвалить в 1924 году пьесу, напичканную обидными для него словами. Неужто так и не понял её скрытый смысл? Однако похвалить из вежливости всё же можно – написано талантливо, это настоящая сатира! Такое же сдержанное отношение к пьесе могло быть и у Шолохова, но не более того.
Приходилось слышать, будто Булгакову пьеса «Самоубийца» решительно не нравилась. Судя по записям