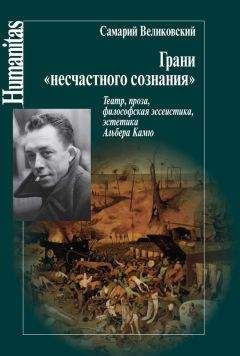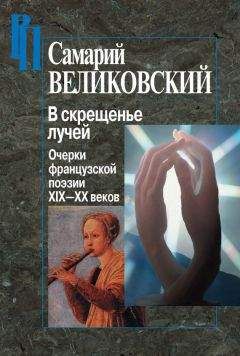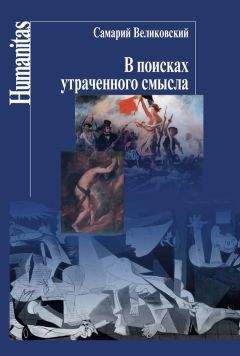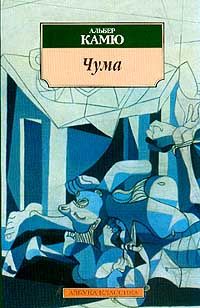Ознакомительная версия.
Будучи воплощена в его сочинениях, она давала стройность, доведенную подчас до суховатости, прозрачность, переходящую в разреженность, простоту, не всегда избегающую обедненности, мастерство, не лишенное отпечатка сделанности, чеканность, отдающую скованностью. Для переработки жизни в «судьбу» здесь пускается в ход не диалектика, пусть даже стихийная, а картезианская логика. Логика достаточно напряженная, чтобы придать личную страстность нашему соразмышлению, но все-таки слишком одномерная, чтобы всерьез разбудить наше созерцание и сопереживание. Неполнота, узость того острого, но не захватывающего нас целиком эстетического восприятия, к которому приглашают нас книги и театр Камю, неизменно напоминают о себе при знакомстве с ними.
В одной из своих статей Камю досадовал на то, что писатели XX века слишком часто довольствуются «тенями» вместо людей во плоти, и сетовал об утрате секрета Льва Толстого, из-под пера которого все выходило «плотным», «трехмерным», полным свежести. Что ж, у Камю были весьма и весьма веские личные поводы для подобных сожалений. Утрата давала знать о себе в собственных его вещах, быть может, еще более явно, чем у многих, кого он упрекал, а последствия ее сразу же различимы в выведенных там лицах, в складе повествования, в слоге – во всей вселенной его вымысла. И причина этого коренится не просто во врожденных чертах его писательского дара. Камю сам закрыл себе доступ к толстовским тайнам тем опасливым недоверием к исторической жизни, да и к жизни вообще, той болезненной всепоглощающей чуткостью к ее коварству при глухоте к идущей в ее недрах здоровой и обнадеживающей работе, какими было насквозь пронизано его миросозерцание, взгляды на творчество – в частности.
О насущности и недостаточности «проклятых вопросов»
Заключение
При жизни Камю не испытывал недостатка в безудержных поклонниках; не был он обойден и столь же рьяными ниспровергателями. Вокруг каждой очередной его книги кипели страсти, да и сам он меньше всего походил на кабинетного затворника. Ныне, десять с лишним лет спустя после его смерти, пора торопливо-запальчивых развенчаний и увенчаний, пора иконописцев, спешащих воздать ему почести пророка, и не менее ревностных иконоборцев для него отодвинулась в прошлое. Скромнее похвалы, сдержаннее и хула. И все-таки трудно согласиться с иными из чересчур уж резвых запевал интеллектуального хора в сегодняшней Франции, затянувших отходную по «старомодному» Камю, в чьих философских раздумьях они находят слишком много лирики, а в лиризме – слишком много философствований. Конечно, с годами очевиднее налет сбивчивого, поверхностного, наносного, лежащий на многих страницах Камю, но очевиднее и то, что обладает прочностью непреходящего. Во всяком случае, не настраиваясь заранее встретить там святое откровение или сплошную ересь, нельзя не различить у Камю тревог и поисков мысли, заключения которой зачастую ненадежны, но сами терзания которой отнюдь не праздны.
Почти во всех книгах Камю, каждый раз на свой особый лад, личность попадает на очную ставку со своим земным уделом в момент, когда гражданственность определенного толка износилась, история чревата катастрофами, привычный уклад повседневного дал трещину. В старину сказали бы, что здесь мучаются «проклятыми вопросами», которые теперь обозначают как метафизические, нередко усматривая в них уклонение от задач жгучих, насущных, злободневных. Упрек, во многом заслуженный Камю – политическим публицистом, но едва ли приемлемый без поправок, коль скоро он обращен к Камю-писателю. Ведь сам по себе «разговор по душам с творением», потребность допытаться, зачем жизнь и зачем смерть, не возникают вдруг, по прихоти случая. «Проклятые вопросы» есть всегда, но они разбухают, заполняя умы, тогда, когда выветривается непосредственное, изнутри данное, не требующее умозрительных подпорок ощущение своей миропричастности, нужности и осмысленности своей жизни. До этого мысль отнюдь не бездействует, но занята преимущественно другим – работой по возделыванию того жизненного поля, которое рисуется ей, быть может, не слишком тучной нивой, но и не истощенным вовсе, не бесплодным пустырем. Чтобы произошла смена самой установки и «проклятый вопрос» забрезжил в головах, а затем был отчетливо задан, да еще с такой выношенной страстью и томлением духа, должно быть утрачено наивно-благодушное приятие чреды трудов и дней. Нужна тревожная догадка – толчок для скептического анализа, в беспощадном свете которого худо-бедно, но все-таки налаженному житью-бытью предстоит обнажить свои неизлечимые язвы, свою ущербность, неспособность быть ничем иным, кроме суетной возни. Тяга к «проклятым вопросам» предвещает близящуюся смерть былой идеологии – в данном случав буржуазной, – более или менее изворотливо освещавшей доселе положение вещей.
В «толчках» у поколения Камю не было недостатка. Да еще таких, что они, скорее, походили на вереницу землетрясений; катастроф выпало с избытком на долю сверстников Камю, которые родились в канун 1914 года, достигли зрелости в канун 1940-го и перевалили на вторую половину своей жизни, когда над миром нависла угроза атомно-водородного истребления. В эпоху Верденов и Герник, Освенцимов и Хиросим утешительные упования на промысел Всевышнего, залог конечного и все искупающего пришествия царства Божьего на землю выглядели непростительным прекраснодушием. И уж совсем чуть ли не кощунством казался завещанный XIX веком, а в XX веке растасканный на прописи житейской псевдомудрости культ некоего сверхлично-разумного и надисторического, заранее оправданного даже в своих жесточайших несуразностях предопределения, которое якобы изначально обеспечивает роду людскому восхождение из низин дикости к высотам цивилизованного благоденствия и тем щедро возмещает все принесенные на алтарь истории жертвы. А ведь прежде всего из этих двух источников – христианства и либерально-прогрессистских учений, этих измельчавших последышей просветительства и гегельянства, – официально-охранительное мышление, идеологически цементировавшее буржуазный уклад, черпало то подобие духовной похлебки, с помощью которой вкупе с кнутом государственного принуждения добивались слепого послушания от человеческого стада, чтобы оно паслось себе потихоньку на отведенном ему пастбище, изо дня в день повышая надои, а когда понадобится, безропотно шло на бойни. В потрясениях невиданного раньше размаха, куда с изуверской бессмысленностью швыряло миллионы своих подданных общество, раздираемое социальными противоречиями и судорожно старавшееся продлить свои дни, сдержав взрывавший его изнутри и теснивший извне революционный напор, один за другим рушились и без того изрядно расшатанные мировоззренческие устои. Пробил час «проклятых вопросов». И они лавиной хлынули с книжных страниц, театральных подмостков, университетских кафедр, киноэкранов. Не обошлось, как обычно, и тут без шарлатанства и подделок, последние даже преобладали, но Камю в этом не заподозришь.
Зачем цепляетесь за служебные, религиозные, семейные, гражданские и прочие столь же почтенно-мелкие заменители недостающего смысла жизни? – спрашивал он в «Постороннем». Зачем тешитесь сказками о колеснице прогресса с надежным возницей по имени Бог (или мировой Разум) на козлах, а сами сидите на вулкане истории, дважды уже на вашей памяти извергавшемся и грозящем извергнуться опять, да так, что вся земля, пожалуй, обратится в выжженную пустыню? – напоминал он в «Чуме». Зачем, добиваясь добра, идете недобрыми путями и тем обрекаете себя и других на то, что в конце получите казарму вместо воли и прозябание вместо счастья? – предостерегал он в «Праведных». Зачем живете так суетно и стыдно, принимая свое барахтанье во лжи за пребывание в истине? – укорял он в «Падении». И всякий раз, несмотря на причудливое переплетение у вопрошающего слепоты и прозорливости, само его беспокойство не было беспочвенным. Упорные «зачем?» Камю в многоголосье его собратьев по перу если и не были самыми дерзкими призывами к мятежу против христиански-торговой, а ныне еще и варварской цивилизации, то присоединялись к панихиде по ее отлетающей душе.
Распад одряхлевшей идеологии сопровождается распадом всех ее клеток, в частности ее нравственного ядра. «Табу» сметаются вызывающим «если Бога нет – все дозволено»; духовные пустоты, результат стремительно-необратимого износа живого смысла в обществе, неразборчиво заполняются подчас болезнетворными выделениями этого распада. В ранних книгах Камю немало следов того, как мысль, без труда проткнув изрядно подтаявшую корку защитной лжи и прозревая позади нее зияющие «дыры небытия», сама же туда и проваливается, зачарованная их нигилистической бездонностью. И тогда последняя не слишком надежная зацепка сорвавшегося в пропасть ума лишь в том, что карамазовский лозунг подхватывается им не с радостью и свирепым восторгом, а в тоске и отчаянии, что манящее наваждение одновременно ужасает. Суть дела последний оттенок не меняет, но в нем есть предрасположенность к обретению каких-то ценностей, не источенных окружающим фарисейством. Они, очевидно, в том, что дано еще до всяких умозрительных выкладок и воспитанных привычек, – в изначальных потребностях живой и вместе с тем смертной плоти. Для нее естественно, а значит, невинно сохранять себя, получать радость от подобных ей тел и материально родственной ей природы. «Посторонний» и был опробованием этих «языческих» азов нравственной грамоты Камю. Когда же через несколько лет обнаружилась их недостаточность, к ним была добавлена «тяга к справедливости», впрочем, «столь же мало поддающаяся рациональному обоснованию, как и самая внезапная страсть», – Камю бдительно следил, чтобы в его азбуку не вкралось что-нибудь от идеологических «мудроствований», а было только «врожденное» и «неподдельное». Порядочность, а не героизм, добрая воля, а не подвижнический долг, работа, а не самопожертвование, лечить, а не спасать – заповеди врачевателей из «Чумы» избегают слов громких, но захватанных, извращенных, сделавшихся ходульными словесами в устах столпов корыстной официальщины. «Заземление» принципов поведения мыслится Камю – да и в самом деле предстает в свете их исторического анализа – как одна из попыток нащупать опору для них вне катехизиса буржуазной ортодоксии.
Ознакомительная версия.