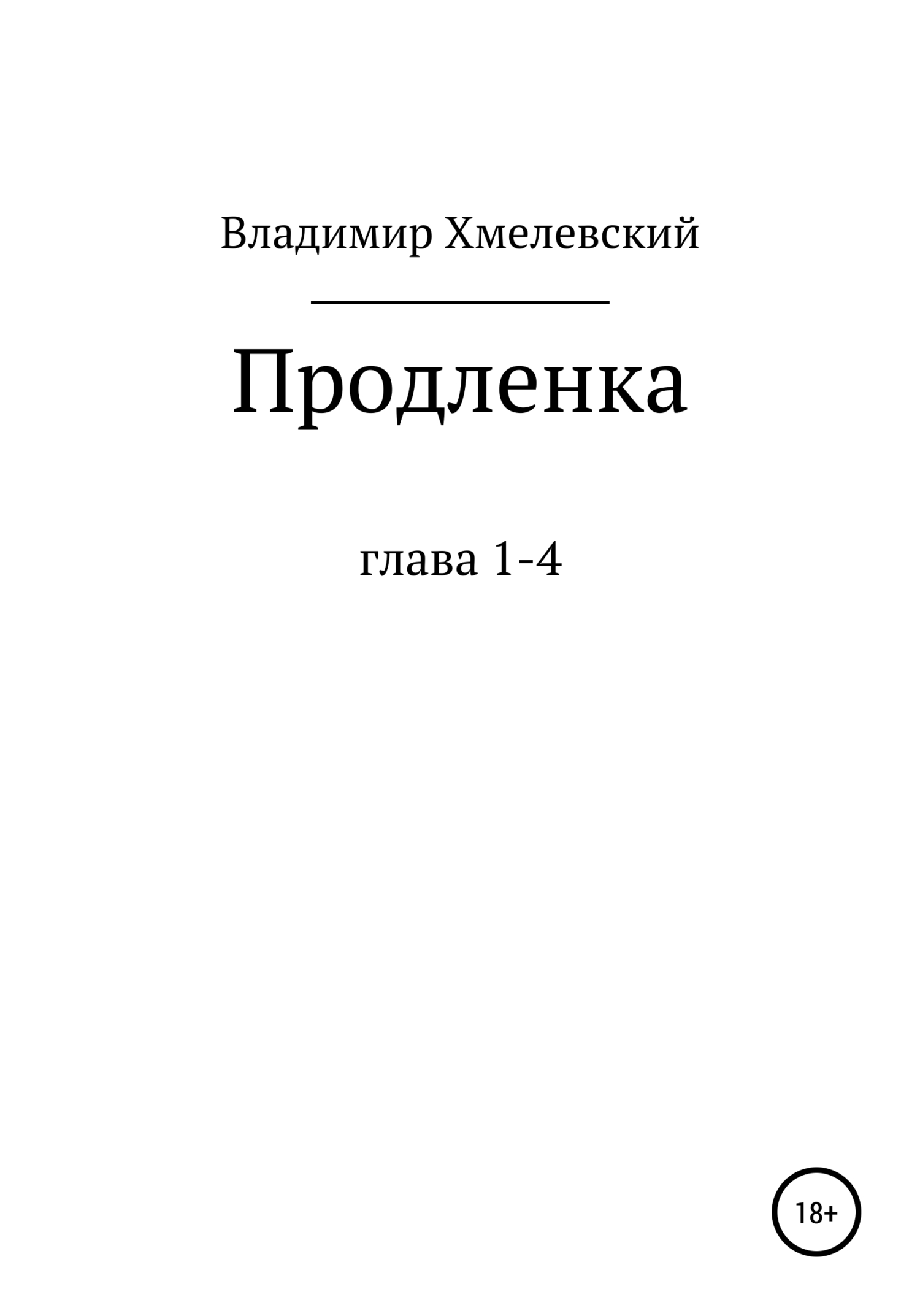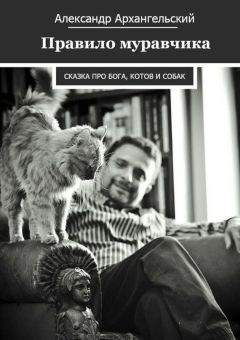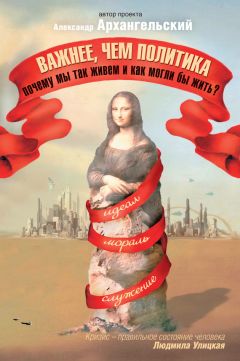(1809–1852)
Гоголевское наследие, при всей его разнородности, подчинено единому закону. Он ищет лекарство от зла. Исследует зло в любых проявлениях. И, если угодно, классифицирует его. Все его герои так или иначе тяготеют к одной из четырех эпох; эпох не исторических, а, скорее, мистических.
Либо они принадлежат древности, когда зло царило безраздельно и спастись от него было невозможно.
Либо они связаны со славной стариной, как Запорожская сечь лучших ее времен, когда со злом можно было сражаться лицом к лицу и побеждать его, а иногда терпеть от него поражение.
Либо они живут в легендарные полусказочные времена поздней Екатерины Великой, когда зло выползает на свет и пытается одолеть человека, особенно накануне больших церковных праздников, но оно уже ослабело, и человек, смеясь и молясь, легко его побеждает.
Либо они оказались в измельчавшей современности, когда зла как будто бы и нет, а на самом деле оно просто стало скучным, незаметным и потому особенно опасным. Оно убивает душу, а не тело, и защититься от него почти никому не удается. У Гоголя даже был сквозной мотив – как постепенно проявляется Антихрист в человеческой истории; когда он был грозен, откровенен, а теперь стал тих и «ничего не значущ». Социальная жизнь работает на него; бюрократическое царство пустоты и безнадежности становится питательной средой для его невидимого воплощения.
Особенно ярко все четыре (но прежде всего три – мифологическая древность, легендарные екатерининские времена и убийственная современность) эпохи представлены в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», с которых начался путь Гоголя в большую литературу. Название цикла отсылало читателя к роману Погорельского «Двойник, или Мои вечера в Малороссии». Здесь прямо говорится (в повести об Иване Федоровиче Шпоньке), что современность окончательно разлучилась с чудесами. Часть героев восходят к седой старине, как минимум четыре поколения вниз по исторической лестнице: тогда черти были намного серьезнее и так просто совладать с ними не удалось. Таковы персонажи «Ночи накануне Ивана Купала», «Страшной мести». Но большинство из них обосновалось в полулегендарном прошлом, отстоящему от читателя «побасенок» Рудого Панька на два поколения, когда люди еще помнили о страшной древности, но запросто обыгрывали ее. Таков кузнец Вакула из «Ночи перед Рождеством». Он, даже будучи сыном «ведьмы» Солохи, может проспать рождественскую обедню – и «всего лишь» покаяться, тогда как Петрусю из другой ночи, языческой, «Ночи накануне Ивана Купала», стоило один-единственный раз в жизни пойти вместо воскресной службы в шинок – и это губит его навсегда.
Или – подобно Грицько – они живут в эпоху, отстоящую на дистанцию памяти одного поколения. (Действие «Сорочинской ярмарки» отнесено к августу 18… года, «приблизительно лет 30 назад».) Из глубины веков приходит «казочка» о красной свитке. Но встреча с настоящей «нечистой силой», даже ослабевшей, даже «подобревшей», почти невероятна, возможна лишь в исключительных обстоятельствах.
Или, как Иван Федорович Шпонька, оказались в современном мире, где воцарился абсурд.
Столь сложная организация цикла, столь «неравноправное» положение героев потребовали от Гоголя игры с авторскими масками. В тексты повестей словно спрятаны невидимые персонажи-рассказчики, не имеющие лиц, но наделенные правом голоса. Это и дьячок Фома Григорьевич, который верит в свои страшные истории, доставшиеся ему от деда (а тому подчас – от его, дедовой, тетки). И «гороховый панич», любящий Диканьку, но воспитанный на «книжках» (Фома Григорьевич считает его «москалем»), И Степан Иванович Курочка из Гядача. И сам Рудый Панько, которому повести приписаны в заглавии цикла и который постепенно из «посредника» между Автором и рассказчиками превращается в одного из повествователей, причастного как полусказочной народной жизни Диканьки, так и большому миру, где издают собранные им повести.
Не менее сложно устроен был и второй сборник гоголевских повестей, «Миргород». Здесь герои тоже четко расписаны между древностью, стариной и современностью. Во времена Вия и панночки зло непобедимо. Во времена Тараса Бульбы с ним можно и нужно сражаться, хотя эта эпоха уже на излете, и Бульба – последний из могикан. В только что завершившиеся времена старосветских помещиков можно было жить счастливо и беззлобно, не теряя смысла. А в продолжающиеся времена Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича стало «скучно жить на этом свете, господа».
И в этом цикле нужно внимательно следить за рассказчиком; если воспринять того же «Тараса Бульбу» как безыскусное повествование «от автора» получится, что Гоголь восхищается кровопролитием, бесчеловечностью, презрением к женщине, ненавистью к инородцам. Если же понять, что все это рассказано как бы с позиций человека той эпической эпохи, который смотрит на нее изнутри, а потом начинает постепенно смотреть извне, из гоголевской современности, многое встанет на свои места.
Петербургские повести разрывают с прошлым – и с милым легендарным, и со страшным демоническим; все есть в современности, и демоны «Портрета», и социальная бессмыслица «Шинели», и сентиментальная трагедия Поприщина, и абсурд «Носа». С некоторой частью повестей рифмуется и «Ревизор», где лжец Хлестаков на самом деле не лжет ради выгоды, а вдохновенно врет, побеждая непобедимую социальную ограниченность жизни. И лишь в «Мертвых душах» (точнее, в перспективе замысла трехтомной эпической поэмы в прозе) появляется надежда на то, что распадающийся мир поправить можно. Правда, не сейчас. Потом. И – может быть.