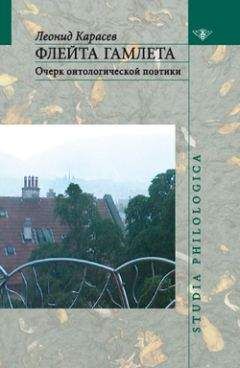Беседа Ивана Ивановича с нищенкой показывает, как он умеет построить свою речь и, вообще, как он любит поговорить: после окончания церковной службы Иван Иванович произносил подобные речи по многу раз («никак не утерпит, чтобы не обойти всех нищих»; значит, поговорить с каждым). И далее у Гоголя: «Иван Иванович (то есть, “гусак”. – Л. К.) имеет необыкновенный дар говорить чрезвычайно приятно. Господи, как он говорит! Это ощущение можно сравнить только с тем, когда у вас ищут в голове или потихоньку проводят пальцем по вашей пятке. Слушаешь, слушаешь – и голову повесишь. Приятно! Чрезвычайно приятно!».
У Чехова в «Каштанке» настоящий гусь Иван Иванович отличается теми же качествами. Перед тем как совершить с Каштанкой совместную примирительную трапезу, гусь произнес речь. «Гусь, вытягивая шею и топчась на одном месте, продолжал говорить о чем-то быстро и горячо. По-видимому, это был очень умный гусь; после каждой длинной тирады он всякий раз удивленно пятился назад и делал вид, что восхищается своею речью». Здесь, помимо общего сходства, состоящего в способности к красноречию, есть одна деталь, на которую только тогда и обратишь внимание, когда займешься подобного рода детальным сравнением. В обоих случаях после окончания изложения главной мысли появляется одно и то же, хотя и по-разному представленное, слово. У Гоголя упомянута «пятка» (говорит так приятно, как будто проводит «пальцем по вашей пятке»), у Чехова сказано, что после окончания каждой тирады гусь «пятился назад». Можно, конечно, не обращать внимания на подобные мелочи, однако, как выясняется, именно в микроанализе текста нередко можно заметить то, что имеет отношение не только к соответствующему ему уровню крохотных деталей, но и к тексту как целому.
И, наконец, еще одно сопоставление. В «Каштанке» это сцена, где мальчик дает собаке проглотить привязанный за нитку кусочек мяса, а затем выдергивает его обратно. Эта сцена в рассказе как-то особенно выделяется и воздействует на читателя почти физиологическим образом, так, что даже спустя много лет и забыв многие детали он помнит именно это место.
Нечто похожее есть и в гоголевской повести, а именно в сцене, где происходит уже приводившийся выше разговор Ивана Ивановича с нищенкой. Хотя ситуация здесь иная, поскольку это слова, а не физические действия, все же данный диалог стоит выделить особо. По степени жестокости и изощренности происходящего ничего похожего мы в гоголевской повести больше не найдем.
Сравнившая себя с голодной собакой нищенка испытывает нечто похожее на то, что чувствовала собака в чеховском рассказе. Сама форма события, его организация здесь та же самая; разница лишь в том, что все происходит не на самом деле, а на словах: «…что же, тебе разве хочется хлеба?», и затем через некоторое время: «…так тебе, может, и мяса хочется?». Иван Иванович как будто дает несчастной женщине почувствовать вкус еды, проглотить ее, а затем выдергивает эту еду обратно. Нищенка как будто верит, что хлеб и мясо вполне реальны, что она вот-вот получит их из рук Ивана Ивановича, поэтому она сама протягивает ему руку, со словами: «Да все, что милость ваша даст, всем буду довольна». И хотя никакого хлеба и, тем более мяса, у Ивана Ивановича с собой нет (что он может дать, так это денег), иллюзия предлагаемой и отбираемой еды создается сильная.
Само собой, если бы мы не занимались последовательным сопоставлением гоголевской повести и чеховского рассказа, то говорить об этом не было бы никакой причины. Однако, поскольку сравнение показывает, что в некоторых и притом существенных моментах эти истории сходятся, постольку и предлагаемое истолкование эпизода с Каштанкой имеет право на существование. Если уж держаться версии о том, что гоголевская повесть каким-то образом «вела» или «держала» автора «Каштанки», то мимо такого мощного и онтологически насыщенного эпизода, как разговор Ивана Ивановича с нищенкой, Чехов пройти не мог.
* * *
Возможно, в тексте «Каштанки» есть и другие, менее заметные сближения с гоголевской повестью. Например, первые слова «Каштанки» – это, по сути, описание собачьей шкуры («молодая рыжая собака»), а первые слова гоголевской повести – описание шкуры бараньей («Славная бекеша (…) А какие смушки!»). Можно обратить внимание и на то, что увлечение гоголевского Ивана Ивановича напоминает о ремесле первого хозяина Каштанки. И хотя Иван Иванович профессиональным столяром, как чеховский герой, конечно, не был, при этом он, как оказывается, «очень искусно, не хуже токаря, умеет выделывать разные вещи из дерева». Как видим, в обоих случаях речь идет о дереве и тонкой работе (вспомним, как столяр из «Каштанки» противопоставлял себя плотнику).
В сопоставлениях подобного рода не нужно искать однозначных соответствий между текстами. Здесь важна не точная привязка какой-либо темы, детали или признака к определенному персонажу, а сам набор тем, деталей и признаков, который может свободно распределяться между разными персонажами, согласуясь лишь со стихией авторского, не поддающегося точному учету ассоциативного потока. Другое дело, что означенный набор деталей должен быть выразительным и достаточно специфичным для того, чтобы не попасть в разряд «общих» мест или тем, которые при желании можно найти где угодно.
Так или иначе, можно сказать, что гоголевская повесть оставила в «Каштанке» весьма заметный след, объяснить который только лишь случайностью возможным никак не представляется. У Гоголя в его повести главная мысль – о принципиальной невозможности вернуться к старой жизни, к прежнему порядку. Эта мысль подчеркнута, прежде всего, длительностью происходящего: многие годы прежние друзья проводят в тяжбе друг против друга. У Чехова в «Каштанке» – на первом месте мысль об эфемерности, неподлинности новой жизни. В финале Каштанка возвращается к своим прежним хозяевам, вспоминая свое пребывание у дрессировщика как «дурной сон». Можно предположить, что для Чехова, писавшего «Каштанку» как историю, в которой все возвращается на «круги своя», гоголевская повесть о невозможности возвращения к прежнему порядку стала своего рода отправным пунктом (оба текста в этом смысле противостоят друг другу, как полюса единой темы возврата-невозврата). Если это так, то становится до некоторой степени объяснимым присутствие в «Каштанке» тех элементов, которые попали в нее из гоголевской повести. Общая, хотя и повернутая в противоположную сторону, тема потянула за собой и некоторые фактические детали, которые, перейдя в новый текст, сложились в новую символическую конфигурацию, стали своего рода подсобным материалом для решения сходной – в оговоренном выше смысле слова – задачи.
Примечательно и то, как преобразуются в «Каштанке» исходные (если предположить, что это так) элементы гоголевской повести. «Гусак» облекается плотью и становится настоящем гусем по имени «Иван Иванович». Гоголевскому персонажу гусь лишь представляется мертвецом, в «Каштанке» – умирает по-настоящему. Молчащее уже много лет ружье, став цирковым пистолетом, оглушительно стреляет. Горох из присказки Ивана Ивановича («С вами можно говорить, только гороху наевшись») становится настоящим горохом в гусином корытце. То же самое происходит с мясом и хлебом: у Гоголя это только слова, которыми Иван Иванович мучит голодную нищенку, у Чехова же мясо и хлеб настоящие, подобно тому, как вполне реальны мучения собаки, которой дают проглотить кусочек мяса, а затем вытаскивают его обратно. Иначе говоря, в «Каштанке» овеществилось, материализовалось то, что в гоголевской повести имело характер условно-метафорический. Что же касается «элементов» исходного текста, то они, не потеряв свой определенности, составили новую смысловую конфигурацию.
«Предыдущего не считайте здравым…»
(Гоголь и Платонов: об одной параллели)
Цель заметки в том, чтобы обратить внимание на факт некоторого созвучия рассказа Платонова «Лунная бомба» и «Записок сумасшедшего» Гоголя.
На уровне сюжетно-тематическом общим в обоих случаях станет тема одиночества человека в мире людей. В «Записках сумасшедшего» Поприщин представлен как человек одинокий, проводящий свое нерабочее время дома на кровати («Дома большею частию лежал на кровати», «После обеда большею частию лежал на кровати» и т. д.).
Инженер Крейцкопф из «Лунной бомбы» – такой же одинокий человек, не знающий, «что ему делать среди множества людей». Сначала он проводит время в кино или на улице, а затем его одиночество приобретает тот же характер, что и у гоголевского чиновника: Крейцкопф «все неслужебные часы спал дома один», то есть, как и Поприщин, лежал на кровати.
У Поприщина было что-то вроде несчастной любви, поскольку о женитьбе на дочери начальника не могло быть и речи. У Крейцкопфа женитьба и совместная жизнь в прошлом: жена его оставила. У Гоголя речь шла о дочери начальника департамента, у Платонова – об «аристократке», дочери крупного промышленника. Само собой, причины и обстоятельства в обоих случаях разные, однако нас больше интересует общее для двух историй – то есть сам факт несложившейся семейной жизни.