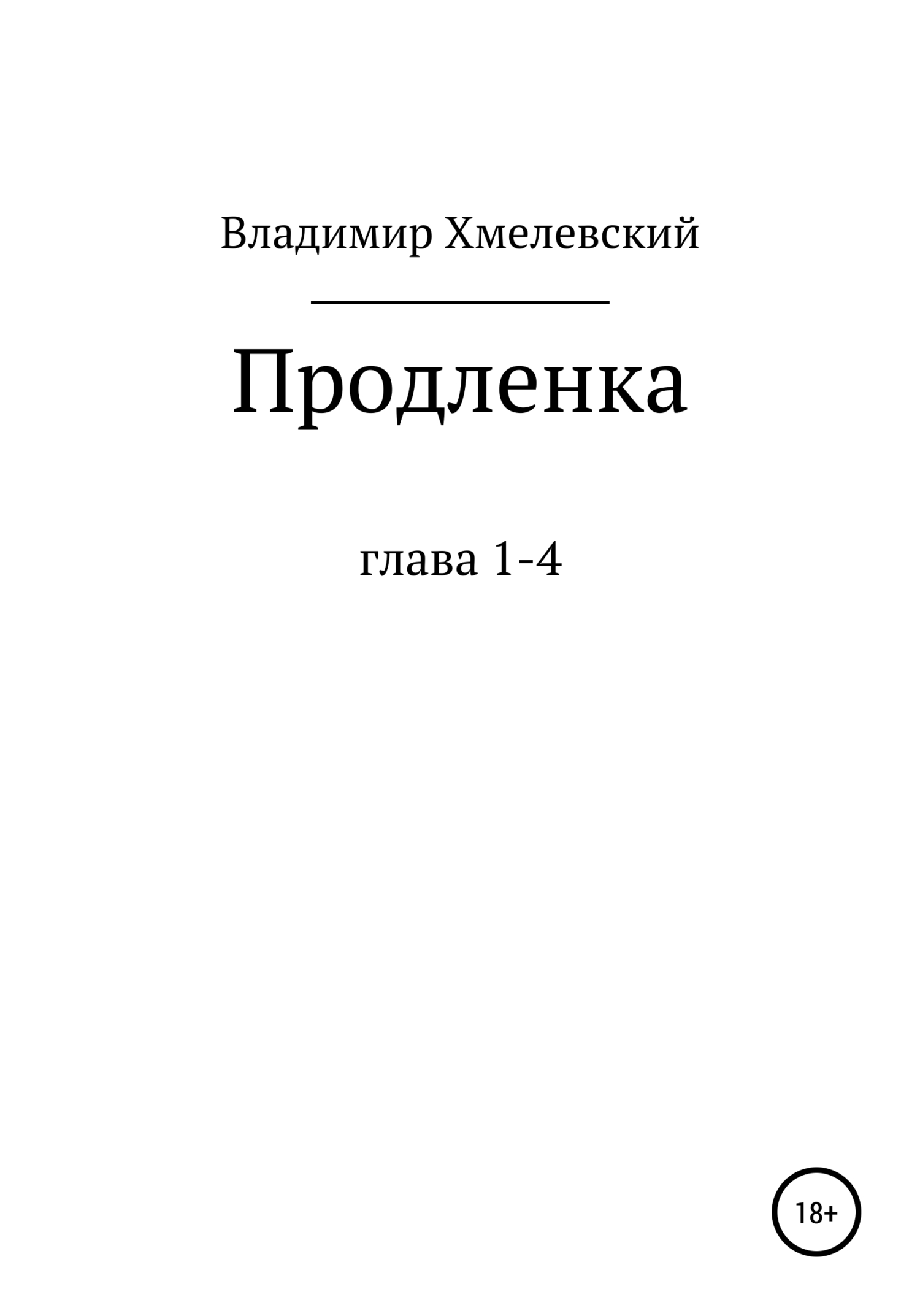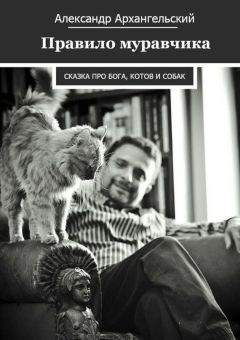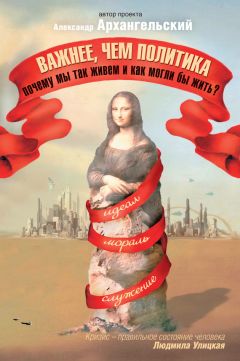не может удержаться, чтобы не заиграть на бандуре и не запеть.
И вот перед ним появляется Панночка-Русалка: «Парубок, найди мне мою мачеху!» Русалки затевают игру в ворона; в отличие от той, которую устроили в селе парубки, эта обрядовая игра – серьезна. Утопленница, которая сама вызывается быть вороном, чтобы «отнимать цыпленков у бедной матери», и есть ведьма. Мачеха схвачена; отныне Панночка-Русалка свободна от наваждения, русалочье уныние покидает ее. Левко награжден и возвращается с подаренной ею запиской от «комиссара» к грозному отцу с приказом немедленно женить сына на Ганне.
Повесть, начавшаяся разговором героев о звездах как ангелах Божиих, глядящих из своих окошек, и о пасхальной победе над темными силами, завершается мысленным пожеланием Левко: «Дай тебе Бог небесное царство, добрая и прекрасная панночка…». Это пожелание полностью расходится с церковной традицией (самоубийц далеко не всегда отпевают и не хоронят в церковной ограде), но совпадает с полуфольклорным образом рая, каким его воображают герои «Вечеров». В этом раю (где небо подобно «надземной» реке) не просто может найтись место для доброй Панночке-Русалке, которая тоже смотрит на мир из своего светящегося «окошка», но ей необязательно и расставаться с «русалочьим» обликом: «Пусть тебе на том свете вечно усмехается между ангелами святыми!»
<4> «Пропавшая грамота. Быль, рассказанная дьячком ***ской церкви»
(1831)
<Гонец>, <дед> – безымянный герой «были» («страховинной казочки»), дед рассказчика Фомы Григорьевича, сыгравший с ведьмами в «дурни». (Из другой «были» дьячка, «Заколдованное место», читатель узнает имя деда – Максим.) Гонец почти начисто лишен индивидуальных черт; это не личность, а сюжетная функция. Единственная подробность, сообщенная читателю, указывает на «духовную грамотность» героя: «Знал он и твердо-он – то и слово-титлу поставить. В праздник отхватает Апостола, бывало, так, что теперь и попович иной спрячется». Все это в нужный момент отзовется на ходе событий; пьяная «грамота» («в голову заберется хмель и ноги начнут писать покой-он – по») чуть было не губит героя, а «духовная грамотность» спасает его, помогая вернуть утраченное им послание, с которым он послан от гетьмана к царице.
Грамота зашита в шапку; за день Гонец преодолевает расстояние от Батурина до Конотопа. И на конотопской ярмарке знакомится с веселым и не в меру болтливым запорожцем. (Запорожцы в мире «Вечеров», если они действуют за пределами Сечи, как правило, связаны с нечистым.) Ночью, в поле, утратив всю смешливость, запорожец признается спутникам, что продал душу дьяволу и ныне – срок расплаты. Пообещав «не выдать» товарища и скорее дать отрезать «оселедец с собственной головы», чем позволить чёрту «понюхать собачьей мордой своей христианской души», Гонец выпивает в шинке водки и в конце концов засыпает. Проснувшись, не видит ни коня, ни запорожца, ни, главное, своей шапки с зашитой в нее гетьманской грамотой. (Шапками они на время поменялись с запорожцем.)
К счастью, шинкарь (который, естественно, знается с нечистым) за пять злотых указывает путь за шапкой: через лес, мимо цыган, что ночью выходят «из своих нор» ковать железо (шабаш), мимо обожженного дерева (сатанинская мета) к небольшой речке (граница между явью и навью). Здесь вокруг огня сидят «смазливые рожи» ведьм и «собачьи морды» чертей «на немецких ножках». Гонца сажают за стол «длиною, может, с дорогу от Конотопа до Батурина». То есть он в обратном, перевернутом мире (ибо сам Гонец только что прискакал из Батурина в Конотоп). Ведьмы предлагают трижды сыграть в дурня на шапку. Хотя бы один выигрыш – и шапка возвращается Гонцу, а иначе, «может, и света более не увидишь». Тут «духовная грамотность» и служит свою добрую службу; на третьей игре Гонец крестит карты под столом – и немедленно выигрывает. Пригрозив перекрестить всю нечисть святым крестом, Гонец получает взамен своего коня (съеденного «рожами») «сатанинское животное» – летающего коня, который сбрасывает героя на крышу его же собственной хаты.
Путешествие возвращается в точку, из которой началось. Движение в сторону, противоположную от цели, тем более замкнутое в кольцо – знак «меченого», демонического пространства. Тем более что жена Гонца всю ночь «подпрыгивала на лавке» и видела «ведьмовский» сон. В мире гоголевских повестей «автоматическая», не зависящая от воли человека, бездушная пляска всегда указывает на действие потусторонних сил. «Духовно грамотный» дед делает единственно верный вывод из случившегося – на этот раз он скачет прямиком, без остановки, размыкая дьявольское кольцо. Милость царицы, которая сидит в серой новехонькой свитке и ест золотые галушки, велика, ему достается целая шапка «синиц» (сторублевок). Это одновременно награда и за доставленную грамоту, и за проявленную «духовную грамотность». А ведьмовское приплясывание жены, которое отныне повторяется ежегодно, – наказание за «духовную ошибку» мужа (пообещав после всего случившегося освятить хату, Гонец «спохватывается» не тотчас же).
<5> «Ночь перед Рождеством»
(1831)
Вакула-кузнец – главный герой повести, открывающей вторую часть «Вечеров». История эта, видимо, рассказана самим Рудым Панько – единственным из рассказчиков цикла, кто знает и Диканьку, и Петербург, и Лафонтена, и Кизяколопупенко.
Вакула влюблен в капризную дочь богатого козака Корния Чуба, черноокую семнадцатилетнюю Оксану. Та, в насмешку, требует добыть для нее черевички (туфельки), какие носит сама царица, – иначе не выйдет замуж за Вакулу. Кузнец бежит из села с намерением никогда в него не возвращаться – и случайно прихватывает мешок, в который его мать, сорокалетняя ведьма Солоха, спрятала ухажера-черта, когда нагрянули к ней другие кавалеры.
И тут Гоголь использует сюжетный ход, который встречается в христианской литературе, например, в повести о св. Иоанне, архиепископе Новгородском. Вакула исхитряется оседлать черта и, угрожая тому крестом, отправляется в Петербург. Смешавшись с толпой запорожцев, проникает во дворец, выпрашивает у Екатерины Великой царские черевички. Тем временем напуганная Оксана успевает без памяти влюбиться в кузнеца, понапрасну ею обиженного и, может статься, потерянного навсегда. Черевички доставлены, но свадьба состоялась бы и без них.
От сцены к сцене тональность повествования все мягче, все насмешливее; образ «мирового зла», с которым предстоит совладать кузнецу, все несерьезнее. Развязывая мешок с чертом, Вакула задумчиво произносит: «Тут, кажется, я положил струмент свой». И на самом деле – нечистой силе предстоит послужить «струментом» ловкому кузнецу. Не поможет даже жалобно-комичная просьба черта: «Отпусти только душу на покаяние; не клади на меня страшного креста!»
Как все герои «Вечеров», исключая персонажей повести «Иван Федорович Шпонька и его тетушка», Вакула прописан в полулегендарном прошлом. В данном случае это условный «золотой век» Екатерины накануне отмены запорожской вольницы, когда мир не был еще так скучен, как сейчас, а волшебство было делом обычным, но уже не таким страшным, как прежде. Черт, верхом на котором путешествует Вакула, «спереди совершенно немец», с узенькой вертлявой мордочкой, кругленьким пятачком, тоненькими ножками. Он скорее похож на