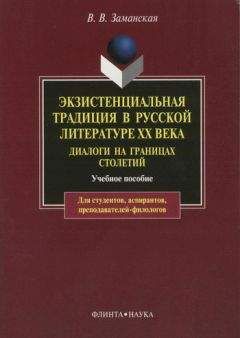Ознакомительная версия.
«Распад атома» – манифест экзистенциализма Г. Иванова. Новое содержание представляет полную и детальную его декларацию. Связано это с тем, что Иванов сделал себя, свою душу, собственное Я эпицентром экзистенциальных прародимых хаосов, которые описывали Кафка, Белый, Мандельштам извне, со стороны.
На видимой поверхности находятся реминисценции «Распада атома» и сартровской «Тошноты»: чувство «превосходства и слабости», с которыми герой относится к окружающему; панорамный портрет «всепоглощающего мирового устройства»; способность «шестым чувством» ощутить «дыхание мирового уродства», его «сладковатый тлен»; «эталонное» чувство экзистенциального человека – страх; недоверие к слову («все слова одинаково жалки и страшны»); болезненное стремление познать мир на уровне «расщепления атома» – основа экзистенциальной гносеологической концепции. У Иванова тот же, что у Сартра, «мировой рекорд одиночества», то же изумление: о чем зовущийся человек может мечтать «на самом дне …одиночества». Есть и атрибутивные – от Кафки до Сартра – детали экзистенциальной панорамы бытия, вплоть до «вспыхнувших фонарей вокруг безобразнейших в мире статуй», которые почти в той же редакции вспыхивали в «Описании одной борьбы», в «Тошноте»; и даже в «Комнате» Сартра ожили эти статуи… Несущественная разница заключается в том, что Сартр описывал тошноту как состояние, располагающее к трансцендированию, к проникновению в сущности; Иванов делает все, чтобы вызвать «тошноту» у читателя, чтобы предоставить ему возможность пережить это прозревающее суть бытия состояние. Переклички Иванова с Сартром поражают своей откровенностью и явным намерением их обнаружить. Автор не только не скрывает истинные философские и литературные контексты своей поэмы в прозе, но охотно их подсказывает. С другой стороны, лишь эти контексты выявляют до конца, что открыл Г. Иванов и для русского экзистенциального сознания, и для европейского экзистенциализма.
Чтобы выразить метафизические и онтологические плоскости бытия, все – от Л. Толстого до Сартра, Камю, Бунина – вводили опосредованного героя (Иван Ильич, Иозеф К. и К., Аблеухов, Рокантен, «посторонние» Камю, Арсеньев). Так аналитически, извне, в диалоге конструировались взаимоотношения экзистенции человека с зияющей бездной бытия, определявшие тип героя XX века. Между писателем и героем оставалась дистанция, пространство для наблюдения и анализа героя. У европейских писателей эта дистанция, аналитическое пространство шире; у русских – в силу национального менталитета, в котором значителен элемент сопереживания, – уже. Но отсутствия дистанции, аналитического пространства между писателем и типом, воплощающим экзистенцию человека, не встречалось ни у одного писателя до Иванова. Тем более нетипично, чтобы писатель и стал той самой экзистенцией человека, в субъективном бытии которой замкнулись «зияющие бездны бытия», «прародимые хаосы» времени и пространства, «жуткая метафизическая свобода и физические преграды на каждом шагу». Сам писатель делает себя, свою жизнь, собственную судьбу предметом изучения в качестве экзистенции человека и не извне, а изнутри своего Я. В своей судьбе он пытался дойти до последней сути – до сути и судьбы экзистенции человека, а в себе найти человека как такового. А в этой ипостаси человек одновременно слепнет и прозревает. И для него все миры и не-миры смыкаются по особым законам (они продиктуют позднему Г. Иванову круг постоянных «трансценденций» – сон, явь, туман, блеск, зеркало и др.): «Все нереально, кроме нереального, все бессмысленно, кроме бессмыслицы»; «Часть, ставшая больше целого, – часть все, целое ничто»; «…ясность и законченность мира – только отражение хаоса в мозгу тихого сумасшедшего». Этим определяется ивановская шкала ценностей и мер в 1940—1950-е годы. Она расставила новые акценты в области предназначения искусства, в оценке мира, в поиске места человека в жизни. Обозначены новые акценты также в «Распаде атома»: «…Книги и искусство – все равно что описание подвигов и путешествий, предназначенных для тех, кто никуда не поедет и никаких подвигов не совершит». Не о том ли и Кафка страдал в «Вечерней прогулке»? Не от себя ли прежнего на наших глазах этими словами отрекается поэт? Не отсюда ли последующая установка – не описывать ничего, а писать из глубины – жизни, смерти, Я? «…Огромная духовная жизнь разрастается и перегорает в атоме, человеке, внешне ничем не замечательном, но избранном, единственном, неповторимом»; «…Первый встречный на улице и есть этот единственный, избранный, неповторимый». Не эта ли практическая феноменология Г. Иванова объясняет особое право сделать сюжет собственного ухода из жизни фактом литературы, а не биографии писателя? По этим законам Г. Иванов будет писать в последние годы; они сделают его большим поэтом, потому что «подтверждают на новый лад вечную неосязаемую правду». И уже состоялось главное открытие: «…Ложь искусства нельзя выдать за правду. Недавно еще это удавалось…». Теперь «болезненно отмирает в душе гармония».
В органичных для ивановского произведения контекстах русской и европейской экзистенциальной традиции открываются некоторые его загадки. Ключ к поэтике «Распада атома», на наш взгляд, все в том же экзистенциальном слове: его кружении, автономной жизни, неподконтрольных витках и вибрациях – словесные мотивы соединяют между собой относительно самостоятельные фрагменты. Внешне это напоминает принцип построения фуги. Сущностно – до совершенства доведенная, воплощенная во всех потенциальных возможностях структура экзистенциального сознания. В «Распаде атома» не в последнюю очередь узнается (и структурно, и концептуально), – как его ближайший контекст, – кафкианское созерцание. Видимо, и к ивановскому произведению обоснованно может быть отнесено жанровое определение созерцания. Это монолит музыки и философии, который для ХХ века открыл как философско-художественное сознание А. Шопенгауэр, а первые образцы дал Ф. Ницше. Так или иначе, все гениальные произведения ХХ века свой музыкальный слепок с эпохи творили в жанре шопенгауэровски-ницшеански-кафкиански-ивановского созерцания. Только в его пространстве «наши отвратительные, несчастные, одинокие души соединились в одну и штопором, штопором сквозь мировое уродство, как умеют, продираются к Богу».
Ивановский Бог в «Распаде атома» – «неистребимое желание чуда, которое живет в людях», и особенно «в русском сознании». Гораздо меньше это реальный непоколебимый и дарующий людям веру Спаситель, еще менее – обретенный самим поэтом. Если бы Спаситель был (хотя бы только в душах), не о распаде атома – самоуничтожении человека – писал бы Иванов; не «Распад атома» он создал бы как эпопею ХХ столетия. И не обессиленный проклятым вопросом «что то?», перефразированный Л. Толстой возник бы в финале в ответе на собственные вопросы: «Это было так бессмысленно, что не может кончиться со смертью». И не умирающий Тютчев, благодарящий Бога – «Одну тебя при мне оставил он, / Чтоб я ему еще молиться мог», – «откликнулся» бы в последних ивановских видениях «Распада атома» и «Посмертного дневника»: «все то же: дорогое, бессердечное, навсегда потерянное твое лицо».
Поговори со мной еще немного,
Не засыпай до утренней зари.
Уже кончается моя дорога,
О, говори со мною, говори!
Пускай прелестных звуков столкновенье,
Картавый, легкий голос твой
Преобразят стихотворенье
Последнее, написанное мной.
Генезис и парадигма ивановского сознания очевидны: от андреевского «мир без Бога» к набоковскому «утратив Бога, мир неизменно утратит и человека» и к «Распаду атома». Таков путь сознания ХХ века.
«Распад атома» поставлен в центр анализа экзистенциального сознания Г. Иванова, потому что это произведение сделало очевидным мировосприятие художника. Это произведение обнаружило сокровенного Иванова, выразило то сущностное, что интуитивно предчувствовал и во что верил (несмотря на все перипетии личных отношений) Ходасевич. «Распад атома» сразу вписал автора в иные культурные орбиты: в историю экзистенциального континентального пространства. Г. Иванов – единственный русский экзистенциалист, у которого традиции русского экзистенциального сознания состоялись с такой мерой концентрированности, как в европейском течении. «Распад атома» отражает бытие как целое и по частям, во всех вертикалях и горизонталях, в его безднах и пределах, в спиралях временных и пространственных, в абсолютной ночи и в «муке, похожей на восхищение», бытие как таковое в зеркале сознания как такового, человека, обреченного только спрашивать. «Распад атома» (без написанного позднее) сделал Г. Иванова если не большим поэтом русской литературы, то большим мыслителем своего века.
Художнику открываются возможности и перспективы почти сверхэкзистенциальные. Родовое качество экзистенциального сознания – изначально знать, что последняя суть непознаваема, и все же до болезненного напряжения мозга и чувства к ней стремиться, стараться ее уловить и остановить. Сверхнапряжение болезненного проникновения к последнему знанию проявилось во всех ветвях русской и европейской экзистенциальной традиции. У Толстого, Кафки, Андреева оно эмоционально формирует экзистенциальную ситуацию, руководит поведением экзистенциального слова. Но всему есть свои пределы. И как бы эти пределы для экзистенциального сознания ни были отдалены по сравнению с иными эстетическими системами, экзистенциальное мировидение тоже ограничено в своих возможностях пределами все той же ограниченной действительности, умопостигаемого бытия и умопостигаемыми горизонтами самого художественного творчества. Так, в философских трудах Сартр дает ряд формул, фиксирующих последнее знание о материи: «свалка студенистой слизи», «ничто» и т. д. Но когда художник Сартр пытается в «Тошноте» (самом дерзком романе по приближению к Бытию и Ничто) запечатлеть картину материи в сверхсостояниях Рокантена, писатель оказывается перед пределами. Принцип неиерархизированности вещей и явлений, поточности бытия, который поднимал писателя над возможностями реалистического метода, так же его и ограничивает, делает картину материи в последней сути излишне логизированной.
Ознакомительная версия.