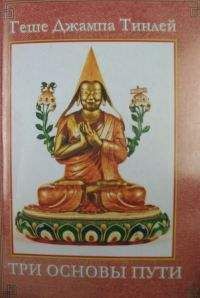«И слёз давешних, которых перед тобой я, как пристыженная баба, не мог удержать, никогда тебе не прощу! И того, в чем теперь тебе признаюсь, тоже никогда тебе не прощу!» — так кричит он во время своих признаний полюбившей его девушке. «Да понимаешь ли ты, как я теперь, высказав тебе это, тебя ненавидеть буду за то, что ты тут была и слушала? Ведь человек раз в жизни только так высказывается, да и то в истерике!.. Чего ж тебе ещё? Чего ж ты ещё, после всего этого, торчишь передо мной, мучаешь меня, не уходишь?» (IV, 237–238).
Но она не ушла. Случилось ещё хуже. Она поняла его и приняла таким, каков он есть. Её сострадания и приятия он не мог вынести.
«Пришло мне тоже в взбудораженную мою голову, что роли ведь теперь окончательно переменились, что героиня теперь она, а я точно такое же униженное и раздавленное создание, каким она была передо мною в ту ночь — четыре дня назад… И все это ко мне пришло ещё в те минуты, когда я лежал ничком на диване!
Боже мой! да неужели ж я тогда ей позавидовал?
Не знаю, до сих пор ещё не могу решить, а тогда, конечно, ещё меньше мог это понять, чем теперь. Без власти и тиранства над кем-нибудь я ведь не могу прожить… Но… но ведь рассуждениями ничего не объяснишь, а следственно, и рассуждать нечего» (IV, 239).
«Человек из подполья» остаётся в своём безысходном противостоянии «другому». Реальный человеческий голос, как и предвосхищенная чужая реплика, не могут завершить его бесконечного внутреннего диалога.
Мы уже говорили, что внутренний диалог (то есть микродиалог) и принципы его построения послужили тою основою, на которой Достоевский первоначально вводил другие реальные голоса. Это взаимоотношение внутреннего и внешнего, композиционно выраженного, диалога мы должны рассмотреть теперь внимательнее, ибо в нём сущность диалоговедения Достоевского.
Мы видели, что в «Двойнике» второй герой (двойник) был прямо введён Достоевским как олицетворённый второй внутренний голос самого Голядкина. Таков же был и голос рассказчика. С другой стороны, внутренний голос Голядкина сам являлся лишь заменою, специфическим суррогатом реального чужого голоса. Благодаря этому достигалась теснейшая связь между голосами и крайняя (правда, здесь односторонняя) напряжённость их диалога. Чужая реплика (двойника) не могла не задевать за живое Голядкина, ибо была не чем иным, как его же собственным словом в чужих устах, но, так сказать, вывернутым наизнанку словом, с перемещённым и злостно искажённым акцентом.
Этот принцип сочетания голосов, но в осложнённой и углублённой форме, сохраняется и во всём последующем творчестве Достоевского. Ему он обязан исключительной силой своих диалогов. Два героя всегда вводятся Достоевским так, что каждый из них интимно связан с внутренним голосом другого, хотя прямым олицетворением его он больше никогда не является (за исключением чёрта Ивана Карамазова). Поэтому в их диалоге реплики одного задевают и даже частично совпадают с репликами внутреннего диалога другого. Глубокая существенная связь или частичное совпадение чужих слов одного героя с внутренним и тайным словом другого героя — обязательный момент во всех существенных диалогах Достоевского; основные же диалоги прямо строятся на этом моменте.
Приведём небольшой, но очень яркий диалог из «Братьев Карамазовых».
Иван Карамазов ещё всецело верит в виновность Дмитрия. Но в глубине души, почти ещё тайно от себя самого, задаёт себе вопрос о своей собственной вине. Внутренняя борьба в его душе носит чрезвычайно напряжённый характер. В этот момент и происходит приводимый диалог с Алёшей.
Алёша категорически отрицает виновность Дмитрия.
«— Кто же убийца, по-вашему, — как-то холодно по-видимому спросил он (Иван. — М. Б.), и какая-то даже высокомерная нотка прозвучала в тоне вопроса.
— Ты сам знаешь кто, — тихо и проникновенно проговорил Алёша.
— Кто? Эта басня-то об этом помешанном идиоте эпилептике? Об Смердякове?
Алёша вдруг почувствовал, что весь дрожит.
— Ты сам знаешь кто, — бессильно вырвалось у него. Он задыхался.
— Да кто, кто? — уже почти свирепо вскричал Иван. Вся сдержанность вдруг исчезла.
— Я одно только знаю, — все так же почти шёпотом проговорил Алёша. — Убил отца не ты.
— «Не ты»! Что такое не ты? — остолбенел Иван.
— Не ты убил отца, не ты! — твёрдо повторил Алёша.
С полминуты длилось молчание.
— Да я и сам знаю, что не я, ты бредишь? — бледно и искривлённо усмехнувшись, проговорил Иван. Он как бы впился глазами в Алёшу. Оба опять стояли у фонаря.
— Нет, Иван, ты сам себе несколько раз говорил, что убийца ты.
— Когда я говорил?.. Я в Москве был…. Когда я говорил? — совсем потерянно пролепетал Иван.
— Ты говорил это себе много раз, когда оставался один в эти странные два месяца, — попрежнему тихо и раздельно продолжал Алёша. Но говорил он уже как бы вне себя, как бы не своею волей, повинуясь какому-то непреодолимому велению. — Ты обвинял себя и признавался себе, что убийца никто как ты. Но убил не ты, ты ошибаешься, не ты убийца, слышишь меня, не ты! Меня бог послал тебе это сказать» (X, 117–118).
Здесь разбираемый нами приём Достоевского обнажён и со всею ясностью раскрыт в самом содержании. Алёша прямо говорит, что он отвечает на вопрос, который задаёт себе сам Иван во внутреннем диалоге. Этот отрывок является и типичнейшим примером проникновенного слова и его художественной роли в диалоге. Очень важно следующее. Свои собственные тайные слова в чужих устах вызывают в Иване отпор и ненависть к Алёше, и именно потому, что они действительно задели его за живое, что это действительно ответ на его вопрос. Теперь же он вообще не принимает обсуждения своего внутреннего дела чужими устами. Алёша это отлично знает, но он предвидит, что себе самому Иван — «глубокая совесть» — неизбежно даст рано или поздно категорический утвердительный ответ: я убил. Да себе самому, по замыслу Достоевского, и нельзя дать иного ответа. И вот тогда-то и должно пригодиться слово Алёши, именно как слово другого: «Брат, — дрожащим голосом начал опять Алёша, — я сказал тебе это потому, что ты моему слову поверишь, я знаю это. Я тебе на всю жизнь это слово сказал: не ты! Слышишь, на всю жизнь. И это бог положил мне на душу тебе это сказать, хотя бы ты с сего часа навсегда возненавидел меня…» (X, 118).
Слова Алёши, пересекающиеся с внутренней речью Ивана, должно сопоставить со словами чёрта, которые также повторяют слова и мысли самого Ивана. Чёрт вносит во внутренний диалог Ивана акценты издевательства и безнадёжного осуждения, подобно голосу дьявола в проекте оперы Тришатова, песня которого звучит «рядом с гимнами, вместе с гимнами, почти совпадает с ними, а между тем совсем другое». Чёрт говорит, как Иван, а в то же время, как «другой», враждебно утрирующий и искажающий его акценты. «Ты — я, сам я, — говорит Иван чёрту, — только с другой рожею». Алёша также вносит во внутренний диалог Ивана чужие акценты, но в прямо противоположном направлении. Алёша, как «другой», вносит тона любви и примирения, которые в устах Ивана в отношении себя самого, конечно, невозможны. Речь Алёши и речь чёрта, одинаково повторяя слова Ивана, сообщают им прямо противоположный акцент. Один усиливает одну реплику его внутреннего диалога, другой — другую.
Это в высшей степени типическая для Достоевского расстановка героев и взаимоотношение их слов. В диалогах Достоевского сталкиваются и спорят не два цельных монологических голоса, а два расколотых голоса (один, во всяком случае, расколот). Открытые реплики одного отвечают на скрытые реплики другого. Противопоставление одному герою двух героев, из которых каждый связан с противоположными репликами внутреннего диалога первого, — типичнейшая для Достоевского группа.
Для правильного понимания замысла Достоевского очень важно учитывать его оценку роли другого человека, как «другого», ибо его основные художественные эффекты достигаются проведением одного и того же слова по разным голосам, противостоящим друг другу. Как параллель к приведённому нами диалогу Алёши с Иваном приводим отрывок из письма Достоевского к Г.А.Ковнер (1877 г.):
«Мне не совсем по сердцу те две строчки Вашего письма, где Вы говорите, что не чувствуете никакого раскаяния от сделанного Вами поступка в банке. Есть нечто высшее доводов рассудка и всевозможных подошедших обстоятельств, чему всякий обязан подчиниться (т. е. вроде опять-таки как бы знамени). Может быть, Вы настолько умны, что не оскорбитесь откровенностью и непризванностью моей заметки. Во-первых, я сам не лучше Вас и никого (и это вовсе не ложное смирение, да и к чему бы мне?), а во-вторых, если я Вас и оправдываю по-своему в сердце моём (как приглашу и Вас оправдать меня), то все же лучше, если я Вас оправдаю, чем Вы сами себя оправдаете».[148]