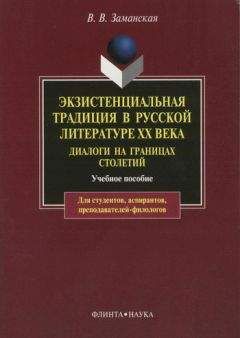Ознакомительная версия.
Безусловным методологическим инструментом к интерпретации всего или почти всего творчества Ю. Мамлеева являются работы З. Фрейда. В то же время страсть к смерти – доминантную тему практически всех мамлеевских персонажей – отражает А. Шопенгауэр.
Однако есть две величины в экзистенциальном поле XX века, проекции которых почти откровенно конструируют прозу Ю. Мамлеева. Это Франц Кафка и Рональд У. Лейнг.
Кафкианский прием разделения человека на «Я» и «мое тело» создает оригинальнейший рассказ «Живая смерть». Мамлеев, доводя этот прием до абсурдного предела, констатирует свое иномирие по той оксиморонной схеме, что заложена в названии рассказа. И если Кафка лишь уловил момент разделения Я и как прием киномонтажа ввел его в свою прозу, то Мамлеев фиксирует момент озлобления частей этого уже разделенного Я по отношению друг к другу. («Давайте их убьем», – вдруг говорим «мы на шкафу», указывая на себя настоящих».) Он обнаруживает тем самым технологию рождения «вечного мирового месива» (почти аналог «свалки студенистой слизи» Сартра), которое состоит из «сгустков наших прежних мыслей», из странно существующих самих по себе наших похотей и ассоциаций. Вражда и индифферентность – вот сущности бытия, увиденные Мамлеевым зрением Кафки в конце XX века. И не случайно по той же оксиморонной логике века «каждый словно прятался в душе Лады, прикасался к ней, спасаясь от судорог распада. В то же время каждый из нас хотел умереть в ней, видя себя в ней мертвым, видеть в ее теле свой синий, поющий неслыханные песни труп…». «Живая смерть» – «этот бредовый дуализм совершенно расшатывал нас», – признается один из персонажей рассказа. Вопрос Кафки о разделении Я будет иметь продолжение в «Московском гамбите». И если в рассказе дуалистическое «или – или» еще содержит в себе возможность некоторого выхода («то ли мы были пылинками, то ли мы были богами?»), то роман замкнет кафкианскую перспективу разделения на ужасном совмещении разделенного: «и да, и нет, все вместе».
В природе и в метафизическом бытии, в конечном счете все так существует, и совмещение «да» и «нет» есть высшая органика. Но это – органика неразделенного, она существует, пока «да» и «нет» не вычленились из целого. А когда вычлененные они вновь совмещаются в одной душе, то «полноту и лишенность одновременно» душе вынести не дано… Одну из кафкианских перспектив Мамлеев замкнет в своем романе не менее оксиморонным вопросом: «После всего, что произошло в XX веке в мире» – «Возможно ли жить?». Возможно, почему бы и нет? Только надо быть готовым к тому, что это будет жизнь, Мамлеевым названная «живая смерть».
Классический реализм XIX столетия открыл иную – социальную природу, аналогичной оксиморонности – «мертвая жизнь». Она была известна по прозе Л. Толстого, Ф. Достоевского, случаи ее были отмечены деликатным сочувствием А. Чехова. Однако до «живой смерти» конца XX века надо было дорасти через опыты Ницше и Кафки, Белого и Малевича. Должны были быть зафиксированы все эти сдвиги дематериализованной плоти и сознания, чтобы из того, что находится уже за пределами всех бездн бытия и небытия, перед Семеном Ильичом разверзлась такая панорама:
Зиял жесткий провал, словно в иное пространство, средневековый пейзаж с мистическими деревьями и замками, а посреди существа, все время изменяющиеся, точно у них не было определенной формы. Может и люди – но какие! Неужели люди могут походить на не людей?! Они казались существами многоглавыми, многорукими, и формы их были подвижные. Все это «человечество» и текло мутным вихрем посреди божественно-средневековых замков и гор… на передний план выдвинулся огромный человек с двумя головами. Одно ухо из четырех висело совсем по-собачьи…
В этом пейзаже отзывается проза Сартра и в рассказы Горького 1920-х годов. Но присутствует и новая реалия, открытая XX веком. Горький, Набоков спрашивали: где человек? Мамлеев всей своей прозой ответил: его нет – осталось «существо».
Юрий Мамлеев диалогизирует с экзистенциальной традицией XX века. Но новое «порубежье» начинает писать как раз с того момента, где его предшественники поставили многоточие. Он не повторяет их, он показывает, «что было дальше», «чем все закончилось».
Одному такому повороту – «что было дальше» – посвящен рассказ «Кэрол» из «Американского цикла» (книга «Черное зеркало»).
Мамлеев и рассказывает, «что было дальше» с тем существом, которое металось по кафкинской «Норе». У Мамлеева – «он жил в дыре. И звали его женским именем – Кэрол». Сам о себе Кэрол «думал… в среднем роде». И вот однажды оно сказало: «Хватит, больше не могу», – и вышло из своей дыры-норы «на улицу, на свободу. Но тогда черная нью-йоркская ночь стала душить его». И происходит распыление плоти (Бердяев), распад атома (Г. Иванов) – «наступил настоящий конец» (Ю. Мамлеев): «Похоронили его Бог знает где». Мамлеевская «последняя точка» прибавила принципиально новое к воспринятому от Кафки сюжету, – увела историю об одном из «оно» в «иномирие» грядущих веков («Кэрол не понимал, кто он такой и что сейчас на самом деле: двадцатый век или двадцать третий»). Но не только в третье тысячелетие устремилась кафкинская история двумя абзацами мамлеевской прозы, но и в «миры нисхождения» (не восхождения ли?):
Но в могиле к Кэролу вдруг вернулась память, потом вернулось сознание (одно тело, увы, не вернулось: оно быстро гнило от присутствия других трупов в этой братской могиле для бедных).
И Кэрол, лежа в могиле, мысленно и пышно хохотал. Он вспомнил имя, свою мать и отца, он знал теперь, где находится (а именно в могиле) и что над ним раскинулся великий город.
Но Кэрол хохотал и оттого, что понял: он погиб навсегда, и скоро его сознание трансформируется так же, как трансформировалось его тело.
Предполагал ли Кафка из своих провиденциальных иномирий начала века, что в конце столетия именно так допишется путь его героя, что финалы его незавершенно-законченных романов, ставившие преграды невменяемой логике, в мамлеевском варианте не смогут остановить логику уже «минус-вменяемую»:
…Ивана тянуло куда-то вперед, на действие, в бесконечность. Да и измотали его ум эти животные….Поэтому Ваня решил их съесть. Утром растопил сало на огромной еще свадебной сковороде. И поплелся в сарай, к бестиям.
Сначала, встав на колени, удавил руками кошечку, причитая о высшем. Пса заколол ножницами. И в мешке отнес трупы на сковородку. Ел в углу, облизываясь от дальнего, начинающегося с внутренних небес, хохота. Поглощая противное, в шерсти мясо, вспоминал кровию о своей голубоглазой, разумной корове, вознесшейся к Господу.
Пережевывая кошачье мясо, думал, что поглощает Грядущее.
Много, много у него на уме бурь было. А когда съел, вышел из избы, вперед, на красное солнышко, и…
Экзистенциальная литература перестала щадить читателя, начиная с Л. Толстого 1880-х годов. Не особо скромничал в описании «последней» правды мора крыс и людей Камю. Не отказывался вызвать эффект «тошноты» не только у героя, но и у читателя Сартр, Г. Иванов интересовался у Г. Гуля, вызвал ли подобный эффект искренностью «Распада атома». И все же в этих произведениях преобладали их художественные достоинства.
Ю. Мамлеев не щадит читателя. Он как бы провоцирует отвращение к тому, о чем пишет; и это отвращение перекрывает художественные качества его прозы.
Интертекстуальность и цитатность Мамлеева характерна и в отношении его собственного творчества. Писатель включает отдельные элементы своих прежних произведений в структуру последующих. Таковыми могут оказаться и фраза, и мотив, и сюжет, и целое произведение. Писатель как будто пробует действие контекста на включаемую цитату и добивается ожидаемого им самим результата: не только цитируемое открывается новыми смыслами, но и адаптирующий контекст, вследствие монтажа, открывается в сопоставлении с его первоэлементом принципиально новым и абсолютно оригинальным содержанием.
Так, например, сутью, свободой, стилем, привычкой для женщины преклонного возраста Полины Васильевны (рассказ «Свобода») становится это тупиковое: «Полежу я, полежу» (думает она полчаса). «Полежу я, полежу», – думает она еще через два часа. Так проходит вечер». Так проходит жизнь. И не одна на свете – есть дочь, но – одна, потому что никому, в сущности, не нужна, и дочери, прежде всего. Все сходится в рассказе: и одиночество старости, и пустота бытия, и надвигающийся маразм; сходятся останавливающееся время и застывающая (мертвеющая) жизнь.
Но вот эта фраза-мотив «полежу я, полежу» переселяется в рассказ «Отдых» (книга «Черное зеркало»). Но переселяется в жизнь «странного, уже четвертый сезон скуки ради отдыхающего у моря существа» – отнюдь не преклонных лет существа – Наташи Глуховой. А если присмотреться, то переселяется как формула почти сартровского существования не одной Наташи, а всего отдыхающего городишка, ибо «людишки, оказавшиеся здесь, походили друг на друга прямо до абсурда». И нет уверенности в том, что это «думанье» теперь не всеобщее: «Постою я, постою, – думала она. – Постою», «Полежим мы, полежим. Полежим», «Половлю я, половлю, – думала она. – Половлю».
Ознакомительная версия.