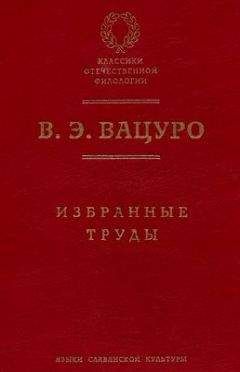14 Как представляется, В.Э. имел «свое суждение» если не обо всех, то об очень многих сочинениях Лермонтова, хотя далеко не всегда делал его достоянием публики. Характерный пример находим в воспоминаниях Л.И. Вольперт, рассказывающей о том, как в беседе с В.Э. (в самолете, транспортирующем в США участников лермонтовского симпозиума в Норвиче, 1989) была реконструирована развязка «Княгини Лиговской». Л.И. Вольперт пришла к выводу, что роман должен был закончиться дуэлью Печорина и Красинского, но исход этой дуэли оставался для нее неясным. Сомнениями она поделилась с Вацуро. «Высказав мысль, что реконструкции концовок не всегда оправданны, открытый конец часто запрограммирован автором и структурно значим (это особенно характерно для раннего Лермонтова – „Вадим“, например), он, однако, согласился со мной, что в случае с „Княгиней Лиговской“ <… > сюжетная реконструкция оправданна <…> я все же склонялась к мысли о победе Красинского. <…> Когда я выходила из самолета, я уже знала со всей определенностью: погибнет Красинский» (Вольперт Л.И. Памяти Вадима Эразмовича Вацуро // Новое литературное обозрение. 2000. № 42. С. 56; курсив Л.И. Вольперт). Мы можем лишь догадываться о той системе аргументов, которой оперировал В.Э., но его мнения о концовках «Вадима» и «Княгини Лиговской» представляются интересными и убедительными. Между тем ни в главе «Истории всемирной литературы», ни в появившейся позднее словарной статье нет и намека на эти гипотезы. Кроме прочего, эта история дает нам и такой важный урок: если в опубликованных работах Вацуро о «Демоне» говорится подробнее, чем о «Мцыри», а некоторые обертоны этой поэмы «оставлены без внимания», то это вовсе не значит, что В. Э. считал «Мцыри» более понятным текстом, меньше о нем думал или игнорировал некоторые особенности этой поэмы. Конспективность обусловливает необходимость «временных жертв», лакуны предполагают возвращение к спрятанным в них проблемам.
15 История русской литературы: В 4 т. Л., 1981. Т. 2. С. 379.
16 В письме Т.Г. Мегрелишвили В.Э. больше говорит о контексте поэтическом, но называет и имена двух прозаиков – В.А. Соллогуба и Н.Ф. Павлова. Само выделение именно этих писателей весьма значимо. (Марлинского В.Э. не упомянул, видимо, потому, что вопрос о соотношении его и лермонтовской прозы был для него в целом решен; сходно обстояло дело и с прозой Одоевского, следы пристального внимания к которой ясно видны в статье о <«Штоссе»>.) Становится понятно, что злополучная статья о Соллогубе (безусловно лучшая из того немногого, что об этом незаурядном прозаике написано) была для В.Э. работой принципиально важной, существенной составляющей скрыто возводимого им здания истории русской словесности первой половины XIX века. О Павлове В.Э. специально не писал – тем весомее его указание на значимость автора эффектных, социально острых, по сути своей, «антипушкинских» «Трех повестей» в литературном раскладе эпохи. Вообще же большее внимание Вацуро к поэзии конца 1820-х – 1830-х годов, чем к тогдашней прозе (ощутимое не только в письме Мегрелишвили, но и в совокупности ныне опубликованных заявок на издания), объясняется не только личным складом В.Э., но и ситуативно: в первой половине 1980-х годов были изданы (лучше или хуже) сочинения почти всех значимых прозаиков пушкинско-лермонтовского времени. Недоступны советскому читателю были только Булгарин и Греч, но об издании этих «пламенных реакционеров» до позднеперестроечных лет и заикаться было бессмысленно. Самому же В.Э. как раз с изданиями прозы фатально не везло: кроме предисловия к Соллогубу была загублена публикация повести В.А. Ушакова «Густав Гацфельд», что должна была появиться в планировавшемся Издательством Ленинградского университета сборнике «Русская фантастическая проза 1820–1840 годов». После погромной внутренней рецензии книга ждала своего часа пять лет, но и в 1990 (!) году издательство не решилось включить в нее повесть Ушакова (свидетельство А.А. Карпова, 208). Несостоявшаяся публикация обернулась статьей «Василий Ушаков и его „Пиковая дама“» (1993); см.: Вацуро В.Э. Пушкинская пора. С. 440–465.
Когда лермонтовская «Бэла» появилась на страницах «Отечественных записок», Белинский писал: «Чтение прекрасной повести г. Лермонтова многим может быть полезно еще и как противоядие чтению повестей Марлинского»1.
Слова Белинского были крайне значительны. К 1839 году назрела острая необходимость противопоставить романтизму Марлинского новый литературный метод с достаточно сильными представителями. Историческая обреченность «неистового романтизма» отнюдь не была очевидной. Широчайший успех сопровождал повести Марлинского не только в читательской, но и в профессионально литературной среде2; Полевой его пропагандировал в «Сыне Отечества»; даже «Отечественные записки», печатая «Бэлу», одновременно приветствуют появление «Мулла-Нура» и «Мести»3.
В конце 30-х – начале 40-х годов появляется длинная вереница подражателей Марлинскому4. Отпечаток его поэтики носят и несомненно талантливые произведения. В 1838–1839 годах Белинский ведет борьбу со «вторым Марлинским» – П.П. Каменским; в 1840 году он замечает о сочинении Н. Мышицкого «Сицкий, капитан фрегата»: «Новое произведение литературной школы, основанной Марлинским – не тем он будь помянут!»5 Еще через два года он выделяет особый разряд «второстепенных, патетических романов», живописующих «растрепанные волосы, всклокоченные чувства и кипящие страсти», основателем которого был «даровитый Марлинский»6. Наконец, в рецензии на сочинения Зенеиды Р-вой (Е.А. Ган) он характеризует повесть «Джеллаледдин» (1838) как отзывающуюся «марлинизмом» «по завязке и по колориту»7.
Последнее замечание особенно интересно. Оно показывает, что для Белинского 1843 года «марлинизм» не равнозначен «экзальтированности», но составляет особый литературный стиль с некими устойчивыми структурными элементами. «Герой нашего времени», вышедший в первом издании в 1840 году, застал расцвет этого «марлинического» стиля.
Критическое наследие Бестужева-Марлинского дает в известной мере ключ к его поэтике. Литературный герой для него нормативен и исключителен; его деятельность определяется жесткими этическими правилами. Так как моральный кодекс задан герою изначала, можно с большой степенью вероятности определить, как он будет вести себя в разных сюжетных ситуациях. Деятельность его протекает в «свете», где индивидуальность нивелирована и моральные критерии чрезвычайно зыбки. Это – «житейская проза», «модное ничтожество», «люди, которых тысячи встречаешь наяву». Герой и представитель света резко контрастируют. Их противоположность – обычный источник конфликта.
Такое представление о героическом характере, общее для декабристского романтизма, получило теоретическое оформление в статье Бестужева и письмах его к Пушкину и братьям по поводу «Евгения Онегина»8.
Предисловие к журналу Печорина, как можно заметить, обосновывает прямо противоположную художественную позицию. В центре повествования Лермонтов ставит «современного человека», которого он «часто встречал», синтезирующего типичные черты общественной психологии («портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии» – VI, 203). Характерно, что, по мысли Лермонтова, «болезнью» Печорина заражен век, т. е. в числе других сам автор книги и ее читатели. Это обстоятельство совершенно исключает непосредственное вмешательство автора, диктующего героям свою этическую программу. «Нравственная цель» сочинения – в указании болезни; способ излечения автору неизвестен. Подобного рода «художественный объективизм» был единодушно отвергнут как читателями, воспитанными на повестях Марлинского, так и апологетами «нравственно-сатирической» литературы. Очень показательна в этом смысле явно конъюнктурная статья Булгарина. Чтобы похвалить роман, Булгарин вынужден был прибегнуть к домысливанию «нравственной идеи», которую Лермонтов якобы сумел доказать от противного9. История критической борьбы вокруг лермонтовского романа как нельзя лучше демонстрирует его эстетическое новаторство.
Было бы ошибочно думать, что поэтика «марлинизма» исключала появление характеров, условно говоря, печоринского типа. Время от времени они появляются – но на периферии повествования, создавая фон или контрастируя с главным героем. Один из таких «предшественников Печорина» в «Фрегате, Надежда“» (1832) заслуживает особого внимания, так как он составляет целое звено в эстетической системе Марлинского. Это ротмистр Границын, скептик и клеветник, едва не сыгравший фатальную роль в истории взаимоотношений Правина и Веры. Характеристика Границына отчетливо публицистична и кажется прямо заимствованной из ранних критических статей Бестужева. Это «человек без воли», выступающий против пороков «не хуже Саллюстия» и «пляшущий по их дудке», «как Репетилов в „Горе от ума“»10. Результатом была растраченная в развлечениях молодость и промотанное имение. «От обоих осталось у него пустота в кармане и душе, а на уме – едкий окисел свинцовой истины… За душой у него не схоронится, бывало, ни похвала врагу, ни насмешка приятелю, и часом он беспощадно смеялся над самим собою… Этим исполнял он невольно наклонность нашего времени – разрушать все нелепое и все священное старины: предрассудки и рассуждения, поверья и веру… Люди ныне не потому презирают собратьев, что себя высоко ценят, напротив, потому, что и к самим себе потеряли уважение. Мы достигли до точки замерзания в нравственности: не верим ни одной доблести, не дивимся никакому пороку»11. Интересно отметить почти текстуальные совпадения с записью Печорина: «Я иногда себя презираю… не оттого ли я презираю и других?.. Я стал неспособен к благородным порывам; я боюсь показаться смешным самому себе» (VI, 313). Автор, однако, не ограничивается недвусмысленной оценкой деятельности Границына, но считает необходимым заключить всю главу о нем воззванием к юношам: бегите от подобных людей и т. д.