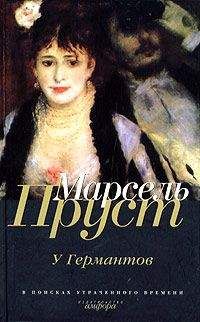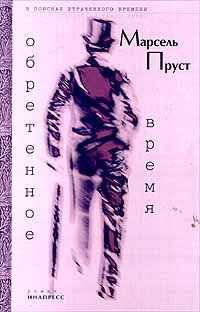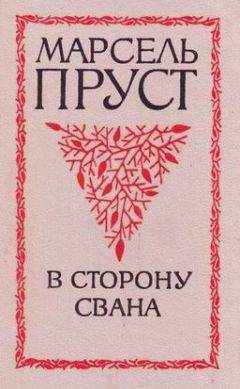«сузил» Хааса, лишил его некоторых существенных черт, прежде всего потому, что Сванн – неудавшийся искусствовед. Он пишет и никак не может закончить биографию Вермеера. То есть Пруст делает из Сванна персонажа, каким всегда опасался стать сам, автора, у которого не получается писать, которому не удается завершить свое произведение. То же самое и в любви. Сванн часто влюбляется, он одержал много любовных побед, но главная любовь его жизни – центральная тема – это любовь к Одетте де Креси, кокотке, о которой он скажет в конце, что она «не в его вкусе». Пруст выплеснул на страницы книги свои собственные страдания. К примеру, ревность Сванна к Одетте – это ревность Пруста к композитору Рейнальдо Ану. В то же время он наделяет его своим остроумием, своим юмором: Сванн, как и Пруст, ироничен и обаятелен, он очень нравится читателям, хотя, в сущности, не слишком глубок. По-человечески это скорее неудачник, который в жизни ничего не достиг, только ходил к портному, ужинал в своем клубе, обманывал и обманывался.
Хотя Сванн – самый популярный персонаж романа, Пруст ни разу не дает подробного описания его внешности. В этом смысле он идет наперекор Бальзаку – полагает, что портрет героя романа – всегда лишь моментальный фотоснимок, и что лица бывают разными в разные дни. Взгляд на людей постоянно меняется. Вот почему он никогда не дает портрета в рост, тогда как автор Человеческой комедии непременно опишет цвет глаз, форму носа, подбородка, походку… Прусту это не нужно. Читатель получит лишь фрагментарный портрет Сванна: слегка вьющиеся волосы, орлиный нос, высокий стройный силуэт… Но неопределенность описания позволит ему отождествить персонаж с самим собой.
Кроме того и, возможно, в первую очередь Шарль Сванн – тот, кто любит сонату Вентейля. К музыке у него отношение своеобразное, чувственное; так, по мнению Пруста, нельзя любить настоящую музыку. В Забавах и днях он уже объяснял, что истинная музыка – та, в которую невозможно проникнуть, в которую нельзя вложить собственные чувства; таким образом, получается, что Сванн – «неправильный» слушатель сонаты Вентейля. В прустовском романе есть нечто, сближающее его с философией Гегеля, а именно этапы постижения знания. Сейчас мы на первом этапе, когда искусством интересуешься потому, что на картине Боттичелли видишь черты любимой женщины, а в музыке Вентейля слышишь отголоски любовных чувств. Такой человек еще не художник, он не понимает по-настоящему, что такое искусство.
И наконец, Шарль Сванн – в каком-то смысле тень рассказчика, тот, кто до него испытает и проживет любовные страдания. Какой-то критик сказал, что Сванн – словно Иоанн Креститель по отношению к Христу. Он сообщает рассказчику и о страданиях любви, и о величии искусства, но сам в конечном счете не достигнет высот ни в любви, ни в искусстве. Рассказчик, в отличие от него, всё же напишет свою книгу.
Сванн – несчастный любовник. В книге В сторону Сванна он оказывается в салоне маркизы Сент-Эверт, на светском приеме, и слушает прекрасную сонату Вентейля. Он отлично знает эту музыку, потому что она ассоциируется с его любовью к Одетте. Но, слыша ее вновь, он осознает тщетность своей любви.
Тогда он с жадным любопытством постигал радости человека, живущего любовью. Он думал, что можно будет на этом остановиться, что ему не придется узнать о горестях любви: а теперь как мало значило для него очарование Одетты по сравнению с чудовищным ужасом, стоявшим у него над головой, как мутный ореол, с беспредельной тоской – не знать поминутно, чем она занята, видеть, как она всегда и везде ускользает из-под его власти! Увы, он помнил, с каким выражением она воскликнула тогда: «Но я всегда могу вас видеть, я всегда свободна!» – теперь-то она никогда не была свободна! – он помнил, сколько интереса, сколько любопытства было у нее к тому, чем он жил, и к нему самому, как страстно она мечтала проникнуть в его жизнь, добиться от него этой милости, а он-то, напротив, опасался, как бы это не обернулось для него множеством досадных помех; он помнил, как ей пришлось упрашивать его пойти с ней вместе к Вердюренам; а когда он раз в месяц приглашал ее к себе, как ей всякий раз приходилось его уламывать, сколько раз она ему твердила, что видеться каждый день было бы восхитительно (тогда она об этом мечтала, а ему это казалось хлопотно и скучно); и как потом она возненавидела эти ежедневные встречи и решительно положила им конец, – а ведь для него они уже превратились в непобедимую привычку, а ведь ему они были мучительно необходимы. Как он был прав, когда во время их третьей встречи она ему твердила: «Ну почему вы не хотите, чтобы я приезжала к вам чаще?» – а он галантно, со смехом, отвечал: «Потому что боюсь страданий». Увы! Он по-прежнему иногда получал от нее записки на бумаге с напечатанными названиями ресторана или гостиницы, откуда она писала, но теперь эти записки жгли его, словно огнем. «Из гостиницы Вуймон? Что она там делает? С кем? Что происходит?» Он помнил газовые фонари, их гасили на Итальянском бульваре, когда, вопреки всякой надежде, он встретил Одетту среди смутных теней той ночью, которая показалась ему почти сверхъестественной, и ведь так оно и было: недаром та ночь осталась во временах, когда ему даже и думать нечего было, не будет ли Одетте неприятно, что он ее ищет, что он ее найдет, настолько он был уверен, что для нее не может быть большей радости, чем увидеть его и вернуться домой вместе с ним; та ночь принадлежала таинственному миру, куда невозможно вернуться, если ворота захлопнулись. И Сванн замер, вновь переживая это счастье, как вдруг заметил горемыку, которого сразу не узнал и даже пожалел; ему пришлось опустить глаза, чтобы тот не увидел, что они полны слез. Этот человек был он сам. [8]
В жизни не столь важно, кого или что любить, <…> важно любить.
Под сенью дев, увенчанных цветами
Размышления о счастье любить встречаются у Пруста так редко, что не процитировать их невозможно. Приведенные выше слова принадлежат барону де Шарлюсу, только что появившемуся на страницах романа, который уже успел пленить рассказчика этим изящным изречением в духе Лабрюйера… При том, что Шарлюс и впрямь может казаться