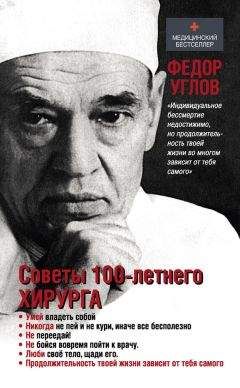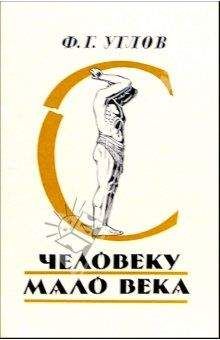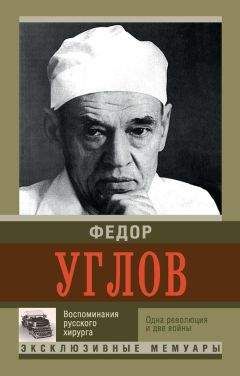Ознакомительная версия.
Должен признаться, что в иные моменты я забывал напутствие Колтунова: не умел вовремя разглядеть зло, скрытое под маской доброты, жадность, выдаваемую за бережливость, подлость, замаскированную под благородство. После тяжело сыпались удары! Но один ли я такой? И не в нашем ли это национальном характере пытаться найти хорошее даже там, где никто другой его не видит?
Перенесенный мною три года назад тиф снова напомнил о себе. Я стал ощущать постоянное недомогание, меня знобило, было холодно даже сердцу. На врачебном консилиуме порекомендовали: поезжайте работать в южные районы страны. Была осень 1930 года.
Прощай, Кисловка! Прощай, моя первая «самостоятельная» больница! С грустью уезжал я отсюда, сознавая, что очень многое здесь мне дорого, и сам я стал тут своим, чуть не полсела пришли меня провожать, кто-то совал в телегу, к моим чемоданам, узелки с вареными яйцами и пышками; хмурился, покашливал, переживая по-своему, мой славный помощник Павел Петрович. Мы обнялись, расцеловались.
А потом была железная дорога, мимо пробежали просторы Украины с пышными садами и белыми хатами, и вот он, юг — высокое голубое небо, не виданные дотоле пальмы, завораживающая лазурь моря, гортанный говор на улицах... Я получил направление в село Отобая Гальского района Абхазии. Вручавший мне предписание веселый кавказец сказал:
— Будешь жить там, как князь, дорогой, обещаю. Сам бы туда поехал, но куда тебя дену?! Поезжай ты!
Не знаю, что имелось в виду под ожидавшей меня якобы в Отобае «княжеской жизнью». Наверно, лишь то, что под больницу выделили дом сбежавшего князя. Просторный, он был сколочен из досок, давно не ремонтировался: в стенах зияли изрядные щели, гуляли сквозняки, во время ливней с потолка струилась вода... Камин, заменявший в доме печь, грел лицо, руки, но спина нещадно мерзла... Возможно, вот из-за таких жилищ, из-за сырого климата я встретил здесь столько людей с пневмонией, сколько не приходилось видеть даже в Сибири. В нашей больнице, во всяком случае, больные могли лежать лишь в теплое, сухое время года. В другие же месяцы главной работой были выезды на дом к нуждавшимся в лечении или скорой медицинской помощи.
Эти поездки иногда ночью, в дождь, при сильном ветре были как опасные приключения. Конь под тобой осекается, с трудом преодолевает горные ручьи, кручи, непролазную грязь. Твой спутник, суровый незнакомый человек, не говорит за всю долгую дорогу ни единого слова, а кругом — ни огонька, никаких примет близкого человеческого жилья...
Как-то повезли меня к больному ребенку за много километров петлевыми каменистыми тропами. У мальчика оказалась запущенная дифтерия, он погибал не столько от затрудненного дыхания, сколько от сердечной недостаточности. Я делал все, что мог, чтобы вывести малыша из тяжелого состояния, и видел: поздно, уже не спасешь... Несколько часов самых напряженных моих усилий не дали никаких результатов. А в соседней комнате собралось человек пятьдесят родственников, и как я только выходил, чтобы помыть руки или еще за чем-нибудь, наталкивался на мрачные лица. Признаюсь, было жутко и тоскливо. А вскоре убедился: ничто уже не поможет, мальчик умирает. Дыхание у него стало тихим, поверхностным, хрипы исчезли, личико вытянулось, нос заострился. Я приподнял веко и коснулся роговицы — ребенок не реагировал... От давящего чувства собственного бессилия, от усталости, от того, что я не оправдал чьих-то надежд, что мне могут не поверить, — подкашивались ноги.
Когда я проходил через комнату, где по-прежнему молчаливо сидели родственники, снова ощутил спиной тяжесть их взглядов. Они еще не знали, что все кончено... Во дворе я нашел своего коня, вывел его за ворота, и в этот момент в доме раздался страшный, душераздирающий крик. Я вскочил в седло и погнал коня прочь. Мне казалось, что здесь не поймут, почему невозможно было помочь мальчику, меня догонят и растерзают. И действительно, вскоре я услышал перестук подков за своей спиной, спешился, готовый к худшему. Но подъехавший человек сказал мне, что я напрасно столь поспешно покинул печальный кров: меня там уважают, и разве не все в этой жизни смертно — даже железо, даже камни и горы. А что лица у близких мальчика были мрачные — это ведь тоже объяснимо: умирал общий любимец, своя, родовая кровь... Человек проводил меня до Отобая, на прощанье почтительно пожал руку.
Этот случай лишний раз убедил меня, как авторитетно наше звание — врач. Везде, в любой обстановке.
Как и в Кисловке, в Отобае я был врачом по всем специальностям. Особенно много больных обращалось, повторяю, с пневмонией. Не знающие тогда про антибиотики и сульфаниламидные препараты, мы лечили их лишь тем, что было в нашем распоряжении. Назначалось камфарное масло под кожу, а при снижении температуры — отхаркивающее и банки... Возвращаясь мысленно к тем годам, я думаю, что опытом минувшего освещается настоящее и будущее. И медицина, чтобы достичь нынешнего уровня, должна была пройти через тот, кажущийся нам сейчас в чем-то примитивным, период.
Но основное заболевание, с которым приходили ко мне, была малярия, вековая спутница тех мест. Она страшно изматывала людей. Худые, желтые, с огромной селезенкой, занимающей весь живот, измученные приступами лихорадки, они страдали невыносимо. Лечение знали одно — хина внутрь и в виде уколов. Последние действовали лучше, но были болезненны.
Всю тяжесть заболевания малярией я испытал на себе. Прицепившись, трепала она меня беспощадно. Странное и гнетущее чувство испытываешь, когда вдруг в жаркий летний день или в натопленной комнате тебе становится невыносимо холодно. Что бы ни надел на себя, во что бы ни закутался — спасения нет: лихорадка начинает трясти так, что зуб на зуб не попадает. О стакан с горячим чаем зубы стучат так, что боишься его разбить... Но и чай не помогает! И так с полчаса или немногим больше. А потом дрожь внезапно прекращается, и сразу становится тепло. Еще немного, и уже жарко! Весь в испарине, не знаешь, куда деться от навалившегося на тебя зноя; он давит, давит, и ты обливаешься липким потом... А через несколько часов, когда приступ заканчивается, во всем теле ужасная слабость, с трудом заставляешь себя одеться, двигаться не хочется: в постель бы, и лежать, бездумно лежать до утра... У меня признали сразу две формы малярии, в том числе самую тяжелую — тропическую. От приема больших доз хины я совсем оглох... Вот тебе и лечение солнцем! Приехал на юг укрепить здоровье, а приходится уезжать отсюда еще более ослабленным, чем был до этого. А главное, обдумывая первые годы своей работы, я с ужасом видел: знания ничтожны, я слабо разбираюсь в болезнях, мало что знаю о современных методах лечения, я врач по диплому, но сам себя назвать настоящим врачом пока не могу — нет на то права, совесть не позволяет... Нужно продолжать учиться.
И опять дорога... Впереди ждал меня Ленинград — прекрасный город, запавший в сердце с первой поездки в студенческие годы. Под мерный стук вагонных колес думалось все о том же: как стать хорошим врачом, как стать умелым хирургом? Да что там умелым! Таким, как Щипачев, Миротворцев, Краузе, чьи смелые и блестящие по исполнению операции довелось мне видеть в университетской клинике. Или Разумовский... Он хотя и не оперировал тогда, но его присутствие на операциях, присутствие выдающегося хирурга, чувствовалось во всем... И как она ответственна, работа хирурга!
В общем, когда ехал из Сухуми в Ленинград, мысли мои были только о хирургах и хирургии. Я говорил себе: или сейчас, или никогда... Или сейчас я выберу врачебную специальность, стану совершенствоваться в ней, отдам ей всего себя, осуществлю золотую мечту детства, или останусь врачом вообще. Кое-чему, конечно, научусь, кое-чего достигну, вот только работа будет не по вдохновению, а так, как у многих, — исполнением обязанностей... Предстояло выбрать.
И в Ленинграде прямо с вокзала я пошел в горздравотдел, во многих кабинетах побывал, много слов выслушал, но своего добился: меня направили в больницу имени Мечникова — в клинику профессора Оппеля. До сих пор уверен, что это было самое ответственное решение из всех, когда-либо принятых мною в жизни. Этот августовский день 1931 года официально приобщил меня к хирургии. Теперь уж навсегда!
Вере Михайловне выписали направление на кафедру акушерства и гинекологии. Подняв на руки детей, мы пошли ленинградскими улицами. И солнце, чудилось, светило сильнее, чем когда-либо, приветливо сиял золотой шпиль Адмиралтейства, верилось только в хорошее, в то, что все прекрасное в жизни лишь начинается... Подмывало нетерпение работать, засучив рукава! Ведь там, на периферии, самые большие операции, которые делал, — это вскрытие флегмоны да панариция. И делал-то их, признаться, так, как бог на душу положит, — чуть ли не в расчете на «авось». А теперь предстоит овладевать чудесами высокого хирургического искусства. И где? В клинике самого Владимира Андреевича Оппеля!
Ознакомительная версия.