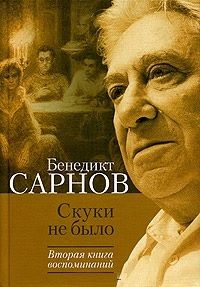Имя Замятина у Маяковского упоминается лишь однажды: в стихотворении «Работникам стиха и прозы, на лето едущим в колхозы». С шутливыми ироническими пожеланиями обращается он там к Замятину, Пильняку, Федору Гладкову, Льву Никулину, Доронину, Третьякову.
Замятин идет в этом списке первым номером:
Что пожелать вам,
сэр Замятин?
Ваш труд
заранее занятен.
Критиковать вас
не берусь,
не нам
судить
занятье светское,
но просим
помнить,
славя Русь,
что Русь
— уж десять лет! —
советская.
Пожелание вполне добродушное. В особенности если учесть, что во множестве других случаев, упоминая (в стихах и прозе) имена поэтов и писателей, не очень прочно стоявших, как тогда говорили, «на платформе советской власти», Маяковский в выражениях, как правило, не стеснялся. Об Ахматовой, например, к которой относился с нежностью и стихи которой любил, однажды высказался так:
Красивость, —
аж дух выматывает!
Как будто
влип
в акварель Бенуа,
к каким-то
стишкам Ахматовой.
И вдруг — такое добродушие! И по отношению к кому! К Замятину, фигура которого уже давно (после знаменитой его статьи «Я боюсь») была вполне одиозной.
Совсем одиозной, правда, она стала позже, когда возникло так называемое «Дело Пильняка и Замятина».
Это была первая крупная в истории советской литературы идеологическая кампания. (Потом такие кампании стали системой: постановление ЦК о Зощенко и Ахматовой, разоблачение «антипатриотической» группы театральных критиков, всенародная травля Пастернака, всенародная травля Солженицына.)
«Дело Пильняка и Замятина» возникло в связи с опубликованием берлинским изданием «Петрополис» повести Пильняка «Красное дерево» и появлением на страницах эмигрантского журнала «Воля России» отрывков из романа Замятина «Мы». Началось со статьи Б. Волина «Недопустимые явления» на первой полосе «Литературной газеты» (26 августа 1929 года). Через несколько дней эта тема была подхвачена и развита статьей М. Чумандрина в «Красной газете» (2 сентября 1929 года).
► Затем было предложено начать «пролетарский смотр» Союзу писателей, и во всех газетах началась травля Пильняка и Замятина: писатели, а затем и «представители широкой общественности» выступили с требованием «указать на дверь» этим «откровенным врагам рабочего класса», «устроить показательный общественный суд на одном из самых больших заводов с участием литературных работников»… 9 сентября исполбюро Федерации объединений советских писателей вынесло решение по делу Пильняка и Замятина: «Факт издания ими за границей своих произведений может быть расценен только как проявление вредительства интересам советской литературы и всей советской страны».
(Евг. Барабанов. Комментарии. В кн.: Евгений Замятин. Сочинения. М., 1988, стр. 530–531)2 сентября письмом в «Литературную газету» в эту кампанию включился Маяковский. Заметка его называлась «Наше отношение». Названием этим подчеркивалось, что выступает он от имени всей своей группы, от ЛЕФа.
► Повесть о «Красном дереве» Бориса Пильняка (так, что ли?), впрочем, и другие повести и его и многих других не читал.
К сделанному литературному произведению отношусь как к оружию. Если даже это оружие надклассовое (такого нет, но, может быть, за такое считает его Пильняк), то все же сдача этого оружия в белую прессу усиливает арсенал врагов.
В сегодняшние дни густеющих туч это равно фронтовой измене.
Письмо вполне хамское, хотя в нем и нет прямых требований ни расправиться с Пильняком, «указать ему на дверь», ни устроить над ним «показательный общественный суд».
Но я привел тут это письмо не для того, чтобы осуждать Маяковского или оправдывать его, а только лишь для того, чтобы обратить внимание на такой любопытный факт.
Кампания, как уже было сказано, велась против Пильняка и Замятина. Во всех статьях и негодующих письмах они шли парой (как в последующих идеологических кампаниях Зощенко и Ахматова, а потом — Солженицын и Сахаров). Но в письме Маяковского фигурирует только Пильняк. И в выступлении на втором расширенном пленуме правления РАПП 23-го и 26 сентября 1929 года, где он тоже очень резко высказывался о Пильняке и «пильняковщине», о Замятине — ни слова!
Никаких далеко — и даже не слишком далеко — идущих выводов из этого своего наблюдения я делать не собираюсь. Просто отмечаю: вот такой любопытный факт.
Может быть, стоит к этому добавить, что и Замятин, заклеймив кличкой «юркие» всех литераторов российских, после победы революции вдруг оказавшихся революционерами, счел необходимым выделить и отделить от них одного Маяковского:
► Наиюрчайшими оказались футуристы: не медля ни минуты — они объявили, что придворная школа — это, конечно, они. И в течение года мы ничего не слышали, кроме их желтых, зеленых и малиновых торжествующих кликов. Но сочетание красного санкюлотского колпака с желтой кофтой и с нестертым еще вчерашним голубым цветочком на щеке — слишком кощунственно резало глаз даже неприхотливый: футуристам любезно показали на дверь те, чьими самозваными герольдами скакали футуристы. Футуризм сгинул. И по-прежнему среди плоско-жестяного футуристического моря один маяк — Маяковский. Потому что он — не из юрких: он пел революции еще тогда, когда другие, сидя в Петербурге, обстреливали дальнобойными стихами Берлин.
(Евгений Замятин. «Я боюсь». Дом искусств, 1921, № 1)Ну, а что касается Присыпкина, которому мы вдруг, быть может, вопреки намерениям автора, начинаем сочувствовать, то это наше сочувствие сперва связано с ситуацией, в которую он, бедняга, попал:
Присыпкин. Куда я попал? Куда меня попали? Что это?.. Извозчик!!!
Рев автомобильных сирен.
Ни людей, ни лошадей! Автодоры, автодоры, автодоры!!!
Мир, где еще сохранились извозчики и лошади, конечно, теплее мира, где одни только «автодоры, автодоры, автодоры». Но тут — все претензии к техническому прогрессу, который, увы, неизбежен. Туда же, на худой конец, можно списать и жалобу Присыпкина на стеклянные стены, к которым даже карточку любимой девушки не прикнопить — все кнопки обламываются. Иное дело — неспособность людей будущего понять и разделить его потребность в том, чтобы «щипало» и «замирало».
По мере того как все глубже и непоправимее становится конфликт Присыпкина с людьми будущего, наше сочувствие ему растет. И вот — финал. Присыпкин в клетке. Директор зоологического сада демонстрирует его публике, как редкое, экзотическое животное:
Директор. Смотрите, я его выведу сейчас на трибуну. (Идет к клетке, надевает перчатки, осматривает пистолеты, открывает дверь, выводит Скрипкина, ставит его на трибуну, поворачивает лицом к местам почетных гостей.) А ну, скажите что-нибудь коротенькое, подражая человечьему выражению, голосу и языку.
Скрипкин (покорно становится, покашливает, подымает гитару и вдруг оборачивается и бросает взгляд на зрительный зал. Лицо Скрипкина меняется, становится восторженным. Скрипкин отталкивает директора, швыряет гитару и орет в зрительный зал). Граждане! Братцы! Свои! Родные! Откуда? Сколько вас?! Когда же вас всех разморозили? Чего ж я один в клетке?..
Голоса гостей. — Детей, уведите детей…
— Намордник… намордник ему…
— Ах, какой ужас.
— Профессор, прекратите!
— Ах, только не стреляйте!
Директор с вентилятором, в сопровождении двух служителей, вбегает на эстраду. Служители оттаскивают Скрипкина. Директор проветривает трибуну. Музыка играет туш. Служители задергивают клетку.
Директор. Простите, товарищи… Простите… Насекомое утомилось. Шум и освещение ввергли его в состояние галлюцинации. Успокойтесь. Ничего такого нет. Завтра оно успокоится… Тихо, граждане, расходитесь, до завтра.
Музыка, марш!
Конец
Какого эффекта хотел добиться Маяковский этим финалом своей комедии? Хотел, чтобы зрители узнали в Присыпкине себя?
Возможно.
Но воспринимается это иначе.