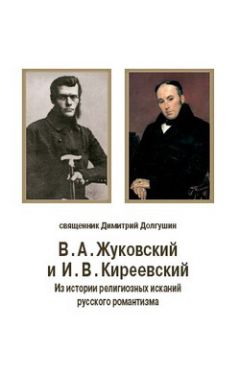В чём же видел он возможность выхода из кризиса? Да в том, что обычно называют покаянием, смирением, подлинным, без тщеславия этим смирением, в духе смиренномудрия первых русских книжников, поднявших культуру домонгольской России на мировую высоту: «… Пойдём по путям того религиозного смирения, той скромности ума, которые во все времена были отличительной чертой нашего национального характера и в конечном счёте плодотворным началом нашего своеобразного развития»{146}. Не меньше славянофилов мечтал он о самобытности русского ума, о высоком значении России, только видел он к этому другие пути — раскаяния, отречения от заблуждений и ошибок, преодоления самомнения и невежества. «Мы будем истинно свободны от влияния чужеземных идей лишь с того дня, когда вполне уразумеем пройденный нами путь, когда из наших уст помимо нашей воли вырвется признание во всех наших заблуждениях, во всех ошибках нашего прошлого, когда из наших недр исторгнется крик раскаяния и скорби, отзвук которого наполнит мир. Тогда мы естественно займём своё место среди народов, которым предназначено действовать в человечестве не только в качестве таранов или дубин, но и в качестве идей»{147}
Но идея проявляется через личность. Для её торжества в культуре, для преобразования культуры, необходим человек, способный пожертвовать своей жизнью идее, и сделать это сознательно, так сказать, рефлективно. Позиция «рокового мыслителя», которого не печатают, которого записали во враги отечества и народа, и если бы не «сумасшествие», то не исключено, что и расправились бы с ним, — такая позиция была психологически едва выносима. Оппозиционность славянофилов в конечном счёте, давалась им легче: они были окружены сонмом друзей и единомышленников, входили в большие родственные кланы, их взгляды не противоречили «святоотеческим традициям»… Установка Чаадаева, рыцаря абсолютной свободы (кстати, «апостолами свободы» называли себя и декабристы), казалась безысходной и бесперспективной. Может ли выжить человек, выступивший против самых основ сегодня существующего мира, возложив надежду только на будущее?.. (От него, кстати, среди прочего идёт и «футуризм» русской культуры, её неприятие «лика мира сего» Достоевский, её, следом за Чаадаевым, требование «искупить прошлое»). Может ли в голову прийти, что А. П. Чехов, которого поначалу просто называли фиксатором жизненных положений, писателем без идеологии, является духовным наследником Чаадаева? Однако стоит сравнить: «Мы отстали, по крайней мере, лет на двести, у нас нет ещё ровно ничего, нет определённого отношения к прошлому, мы только философствуем, жалуемся на тоску или пьём водку. Ведь так ясно, чтобы начать жить в настоящем, надо сначала искупить прошлое, покончить с ним, а искупить его можно только страданием, только необычным, непрерывным трудом». Этот почти буквальный парафраз чаадаевского письма взят из пьесы Чехова «Вишнёвый сад». Скажут, что это — слова Пети Трофимова, а не самого Чехова. Однако в традициях русской литературы — доверять слово правды блаженному, юродивому, человеку под дурацким колпаком: в литературе конца XIX века эту роль играл «вечный студент», каковым и был Петя Трофимов. А обращение Маяковского: «Уважаемые товарищи потомки! // Роясь в сегодняшнем окаменевшем говне, // наших дней изучая потёмки… » — всё это «чаадаевское». Мне как-то довелось слышать от одного из друзей В. Высоцкого, что бард, выразивший в своих песнях энергию протеста в семидесятые годы нашего времени, любил Чаадаева: в его комнате висел портрет опального мыслителя.
Очевидно, что жизнь «басманного философа» была на износ. Но в культуре для её плодотворного развития должен быть такой камертон, человек выстоявший. Он на всё дальнейшее будущее — пример стойкости и возможности сопротивления. И смешно говорить, что мировая история не знала подобных примеров пророческого противостояния одного — всем. Чаадаев, судя по всему, разделял идею, проводившуюся и в святоотеческих, и в католических сочинениях, о необходимости для истинно верующего следовать в своей жизни образцу, который даёт Христос. Он часто повторял, что идеалы Откровения каждый раз повторяются через новых посланников, — «избранных», которые должны ждать испытаний. В 1835 г., ещё до выхода в свет «Философического письма», он, обращаясь к А. И. Тургеневу, с уверенностью замечал: «Я уже с давних пор готовлюсь к катастрофе, которая явится развязкой моей истории. Моя страна не упустит подтвердить мою систему, в этом я нимало не сомневаюсь»{148}. Надо понять, писал он уже после, в 1837 г., «что вечность не что иное, как жизнь праведника, жизнь, образец которой завещал нам Сын человеческий; что она может, что она должна начинаться ещё в этом мире, и что она действительно начнётся с того дня, когда мы взаправду пожелаем, чтоб она началась»{149}
Над Чаадаевым иронизировали. Его могли не печатать. Но он был, он устоял, и тем самым состоялся. И сегодня без преувеличения можно сказать, что, не будь «рокового», судьбоносного Чаадаева, мы бы — перейдя в век XX — не имели ни автора «Котлована», ни автора «Мастера и Маргариты», тоже ведь выстоявших.
«Чаадаев знаменует собой новое, углублённое понимание народности, как высшего расцвета личности, и России как источника абсолютной нравственной свободы»{150}, — писал О. Мандельштам. Действительно, именно такой хотел мыслитель видеть свою страну. Но путь к такой России лежит только через правду, через подлинно честное самопознание и самосознание.
Скажем, может быть, слишком громко, зато отчётливо. Русская культура нуждается в Чаадаеве. Русский мыслитель не был «человеком толпы». И заблуждался, и отыскивал истину он сам, собственными, самостоятельными усилиями. И такой человек, наперекор рабскому обществу выработавшийся в свободную личность, — он не мог не вызывать и вызывал уважение не только друзей, но и противников. В заключение приведу цитату из письма Тютчева, отнюдь не разделявшего воззрения Чаадаева, но, по получении портрета мыслителя, написавшего ему: «Портрет очень хорош, очень похож, и притом это сходство такого рода, что делает великую честь уму художника. Это поразительное сходство навело меня на мысль, что есть такие типы людей, которые словно медали среди человечества: настолько они кажутся делом рук и вдохновения Великого художника и настолько отличаются от обычных образцов ходячей монеты… »{151}. Потому-то и след его в нашем сознании — словно алмазом по стеклу…
V. ГОГОЛЬ И СТАНОВЛЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Мы со школы помним все определения гоголевского творчества как реалистического, критического и сатирического, помним, что он родоначальник «натуральной школы», да и вообще отечественной прозы, как Пушкин — поэзии, даже шире (если воспользоваться выражением Хомякова), родоначальник «русской художественной школы»; мы помним, что критика 50-60-х годов прошлого века разделяла русскую литературу на «пушкинское» артистическое, и «гоголевское», критическое, направления; знаем что такое отношение к Пушкину было несправедливо, что Пушкина нельзя называть сторонником «чистого искусства», и всё же: соглашаемся с Чернышевским, что Гоголь «первый дал русской литературе решительное стремление к содержанию, и притом стремление в столь плодотворном направлении, как критическое. Прибавим, что Гоголю обязана наша литература и самостоятельностью»{152}. То есть после Гоголя, как разъяснял далее критик русская литература перестала походить на переводы или переложения европейской. А ведь стоит вдуматься, чтобы осознать какой невероятной самобытностью и творческой силой надо было обладать, чтобы дать толчок к самовыявлению великой литературы и в известном смысле определить её тенденции, направление, проблемы.
Но мы также со школы помним, что последний период гоголевского творчества, а именно «Выбранные места из переписки с друзьями», в которых Гоголь отрекался от всего своего прежнего творчества, как бы выпадал из общей схемы его развития оставался для нас тёмным, не прояснённым пятном; учителя говорили о реакционности «Выбранных мест… », о том, что с этого произведения начинается упадок Гоголя, и всё получалось естественно: сначала расцвет, потом упадок. Никакой проблемы ми в этом всем не видели.
Между тем мы выросли и стали осторожнее. Мы знаем, что в отвергнутой обществом книге есть несколько замечательных статей, на которые ссылались и которые цитировали известные писатели и литературоведы («О том, что такое слово», «Об Одиссее, переводимой Жуковским», «О лиризме наших поэтов», «Исторический живописец Иванов», «В чём же, наконец, существо русской поэзии и в чём её особенность»). Мы уже прочитали, что писал спустя несколько десятков лет после выхода книги Гоголя Лев Толстой: «Ещё сильное впечатление у меня было… недели три тому назад при перечитывании в 3-й раз в моей жизни переписки Гоголя. Ведь я опять относительно значения истинного искусства открываю Америку, открытую Гоголем 35 лет тому назад…. 35 лет лежит под спудом в высшей степени трогательное и значительное житие и поученья подвижника нашего цеха, нашего русского Паскаля. Тот понял несвойственное место, которое в его сознании занимала наука, а этот — искусство. Но того поняли, выделив то истинное и вечное, которое было в нём, а нашего смешали с грязью, так он и лежит, а мы-то над ним проделываем 30 лет ту самую работу, бессмысленность которой он так ясно показал и словами и делами»{153}.