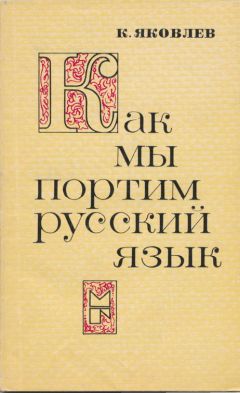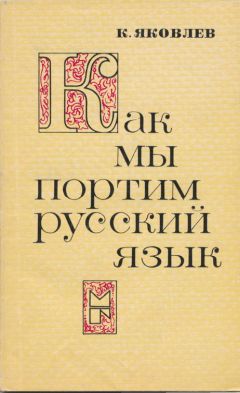А. К. Югов отлично показал в своей книге «Судьбы родного слова», как и в науке находятся простые, ясные и очень выразительные слова взамен сложнейшим иностранным. Даже в анатомии. Да хотя бы кивательная мышца вместо мускулюс стерноклейдомастоидеус (грудинно–ключично–сосцевидной мышцы)! Или рассеяние энергии вместо диссипации энергии, наложение волн вместо интерференции волн, огибание вместо дифракции, плавень вместо флюса (при сварке) и т. д.
В той же книге «Судьбы родного слова» приведён исторический и вполне удавшийся опыт изгнания излишней иностранщины целым народом — чешским.
Вот что говорит писатель:
«Нужно помнить закон всего живого: упражнение усиливает, растит и укрепляет, а неупражнение расслабляет, обессиливает, губит…
То же и с языком.
Восторженно–неистовое пожирание всевозможного чужесловия таит, помимо прочего, ещё и ту опасность, что запесочиваются, глохнут год от году и самые родники русского словообразования…
Когда я думаю об этом, я не могу не вспомнить высокий исторический подвиг чешского народа, который под многовековым напором воинствующего германизма, под железной пятой габсбургской монархии полностью отстоял чешскость чешского языка, развил в полной мере все его силы и возможности. Великие представители чешской интеллигенции, его «будители» шли во главе этого движения. Но и рядовой школьный учитель обессмертил себя в этом историческом подвиге. И вот поныне чист чешский язык от иностранных заимствований. Изредка встречаются, конечно, эти ненужности, как, например: «офензива» — наступление, «конверзаце» — разговор, «шпацирка» — прогулка, но в целом язык науки и промышленности великолепно самобытен. Вот всего лишь горсточка примеров, а их ведь тысячи и тысячи:
шлюз — здимадло; шоссе — подвозок; парашют — падак; перпендикулярно — колмо; абсцисса — усечка; автострада — далнице; элемент — првек; экватор — ровник; грамматика — млувнице; хрестоматия — читанка; аэропорт — лётиште; лоцман — лодивод; театр — дйвадло; корреспондент — справодай; проездной билет — йизденка; шезлонг — лёгатко; парикмахер — голич и т. д., и т. д. Само собой разумеется, что все эти тысячи слов произведены в духе языка, по его законам и заведомо понятны любому чеху, так как крепко–накрепко связаны с предметностью, с вещественностью производства, науки, быта.
И что же? Разве посмеет кто–либо сказать, что чешская наука и промышленность по причине этой глубокой чешскости своего словаря хоть в чём–либо отстали от науки Запада или ослабили свои международные связи? Так почему бы нам и не поучиться доброму у братьев–чехов?!» (с. 130–131).
Заметим: сказанное А. К. Юговым почти полностью относится и к словацкому языку, в котором приведённые слова звучат в большинстве случаев одинаково с чешскими. Лишь парашют, к примеру, не падак, а падак, шлюз, не здймадло, а вздувадло, или ставидло, билет — листок. Так что опыт изгнания иностранных слов принадлежит, по существу, не только Чехии, а Чехословакии в целом.
Думается, любопытно было бы проследить и отношение других народов к словам чуждым, иностранным, прежде всего опять–таки народов, близких нам по языку.
Конечно, нет ничего неожиданного в том, что, скажем, в болгарском языке мы встречаем часто совершенно одинаковые с нашими словами или разнящиеся лишь едва заметно. Что водород там — водород, а кислород — кислина, что колесо — колело, курица — кокошка, а незабудка — помнятка.
Но, может быть, нам всегда будет удивительно, что у братьев–болгар безо всяких нареканий живут и стрельбище (тир), и игрище (стадион). И если даже есть какие–то «чужестранные» слова, все же больше уважаемы свои.
Болгары говорят:
не констатировать, а установявам (и у нас — устанавливать. да слово уже забываться стало);
не конфузиться, а смущавам (русские говорят — смущаться);
не концентрировать, а съсредоточавам (и в русском языке — сосредоточивать); не мемориальный, а памятен;
не бухгалтер, а счетоводител, не бухгалтерия, а счетоводство (у нас тоже счетовод, но разве только в самом крошечном колхозе, а в крупных русское слово считается теперь неприличным, а самое «счетоводство» уже напрочь изгнано).
И так далее: не бухта, а залив;
не гавань, а пристанище (наша «пристань»);
не диктор, а говорител;
не фундамент, а основа;
не экзамен, а йзпит (испытания);
не юстиция, а правосудие;
не солдат, а войник (воин);
не шеренга, а реднца;
не рекомендовать, а препоръчвам (ручательство или поручительство наше)…
Есть в болгарском языке и свои, особые слова, тоже вполне понятные каждому русскому человеку и очень интересные:
квартал — трехмесячие, карусель — вертележка, коммутатор — номератор, мол — волнолом, парус — платно, штукатур — мазач
(штукатурить — мажа, штукатурка — мазилка),
ювелир — златар,
токарь — стругар,
экспорт — износ,
транспорт — прёвоз,
трап — слиз…
Язык живой и ясный, он даже ртуть назвал весёлым и образным, точным словом «живак». Он не очень жалует «магазины», потому что кондитерский магазин в нём — сладкарница, книжный магазин — книжарница…
И ещё хочется сказать о близких нашему братских языках: они не очень–то церемонятся с чуждыми словами, которые по необходимости в них попали. Так, в болгарском металлист — металйк. В «чужестранных» словах болгары используют этот словообразователь — ик, хотя в своих чаще употребляют — ач или — ар. А сдвоения согласных избегают вовсе. Говорят: «метал», «милион» (и у чехов — милион, н у словаков, а металл у них ков; металлист по–чешски — ководёлник, по–словацки — ковороботник).
Если бы мы захотели подумать об очистке своего языка от лишних, сорных иностранных слов или хотя бы как–то разнообразить слова, избегая закоснения, стёртости, шаблона, •— мы, конечно же, могли бы обратиться к опыту и болгар, и словаков, и чехов, и поляков, и других славянских народов.
Жаль, что думаем об этом крайне мало, если не сказать — не думаем вовсе. Спросит кто–нибудь, что значит «вспомнил по ассоциации» — не вдруг объясним, не вдруг память подскажет, что «по ассоциации» — просто «в связи» с чем–то, что ассоциация и есть связь, отсюда то же слово в значении «союз».
Этот пример — действительный случай. Как смутился, оправдывался товарищ! «Ведь крутится слово, а поди ж ты…» Да, вот уже и закрутилось! Не чужое слово крутится, вспомниться не может, а своё, так привыкли к иностранному «заменителю».
Мы порой не заметим, что переводчик, недостаточно чувствуя русский язык, многие слова переводит неточно или оставляет вовсе без перевода (сочтём это «элементами колорита» вроде мюзик–холла, блюза или того же хобби). А попытайтесь–ка ввести вновь русское народное слово или создать своё взамен иностранному! Мигом в шишковцах окажетесь, хотя предложили бы и не какой–нибудь «шаротык», а нечто нужное, понятное и выразительное. Зато будто специально заботимся, как бы заменить ещё какое–нибудь своё слово чужим, ввести ещё что–нибудь иностранное.
Да не угодно ли: и двух лет не прошло с тех пор, как слово «мюзик–холл» связывалось с американской музыкой. А теперь у нас уже «Московский государственный мюзик–холл»! Есть и ленинградский, есть и «диксиленд»!
Напрасно успокаивал читателей автор книги «Живой как жизнь»: дескать, наш язык–богатырь, взяв «чужеродное» слово, самовластно подчиняет его своей собственной воле, своим вкусам и требованиям, поэтому не надо «боязливо шарахаться» от этих слов, не надо бояться, как бы ему не повредило. Да и не та здесь логика. Разве можно так: богатырь — так пичкай его чем попало…
Что касается силы нашего языка, нельзя, конечно, не согласиться. Верно, он способен и переиначить, и подчинить своим законам любое нужное иностранное слово. И подчинял. Попадали в русский язык непривычные — кепи, кофе или пальто — и переиначивались для склонения — «кепка», «кофей» (в этом виде они вошли в литературный язык — «кофей», например, у Радищева, у Тургенева, у Л. Толстого) — или склонялись без переделки. Но и в том ещё штука, что язык почему–то лишили его права переиначивать и подчинять. Забыто золотое правило, известное ещё Белинскому и Пушкину: «грамматика не предписывает законов языку, но изъясняет и утверждает его обычаи».
Вопреки правилу наши учёные грамматисты[3] — любители «вмешиваться в языковые процессы и направлять по желаемому руслу» — освободили «залётные» слова от законов русского языка и предписали не склонять даже те, что склонялись. Стоп, тургеневско–толстовский «кофей»! Назад! Другие (вроде парашюта и панциря) оказались избавленными от обязанности подчиняться русскому правописанию. (Так и вспомнишь слова печально известного академика Греча: «Пусть целый народ единогласно употребляет известное слово несогласно с правилами моей грамматики, я всё равно скажу, что оно употребляется неправильно».) И ведь до чего дошло: в пору «Предложений по усовершенствованию русской орфографии» замахивались и исконно русские слова писать на манер иностранных. (Очень подкупает простота правила: после Ц всегда писать И, как в иностранных словах, — не моргнув глазом объясняли усовершенстеователи.) Так объявились было пресловутые огурци, конци и другие — не то русские словеса, не то иностранци. Впрямь забоишься за русский язык, если уже не «залётные» слова на свой лад, а свои на чужой почнем переиначивать, не всегда отличая общественную потребность от желания личного, собственным дурным вкусом подсказанного.