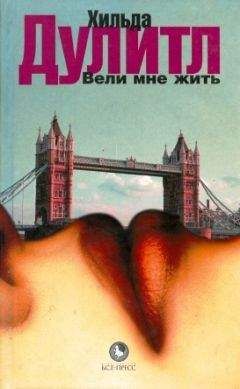Что здесь создает такой мажорно-праздничный тон? Ну, май, ну, белые ночи. Но ведь сказано: жестокий. Вечный стук в ворота сам по себе не может вызвать приподнятого настроения, голубая дымка, да еще за плечами — тоже. Уж не гибель ли впереди? Одно ритмическое ударение на слове май сливает сознание гибели с чудесным немотивированным чувством приятия всего на свете.
Разумеется, в языке есть способы слияния, позволяющие передать смысловой оттенок. Так, утверждать означает говорить, что ты веришь; жаловаться означает говорить, что ты недоволен и т.д. И разумеется, речь предоставляет неограниченные возможности сочетаний, слияний (“Я счастлив жестокой обидою...” или “Какое счастье быть несчастным”). Но дело в том, что сообщить о чувстве совсем не то, что непосредственно его проявить. Звук голоса обладает гораздо большим диапазоном оттенков, чем слово. Поэтому печаль в условиях шестистопного ямба и в условиях, скажем, трехстопного хорея — это две разных печали, подобно двум музыкальным мелодиям в одном минорном ключе. Сравним:
Не спрашивай, над чем задумываюсь я:
Мне сознаваться в том и тягостно и больно;
Мечтой безумною полна душа моя
И в глубь минувших лет уносится невольно.
И
Ласточки пропали,
А вчера зарей
Все грачи летали
Да как сеть мелькали
Вон над той горой.
О “содержании” печали и в том, и в другом случае сказать что-либо трудно по этим первым строфам, по интонационно она вполне выражена и звучит различно.
Звук и смысл в речи связаны неразрывно. Речевая конструкция стиха дает возможность преодолеть природную аналитичность языка. В сущности, в художественной прозе тоже необходимо изыскать способ обойти речевой феномен повествования, чтобы читатель мог вместе с сообщением о чувствах получить их, так сказать, в собственное пользование. Искусство воздействует эмоционально. Помимо сюжета, помимо идей, которые содержит прозаическое произведение, оно обладает некой эмоциональной аурой, в прозе достигаемой усильями всего текстового пространства. В поэзии бывает довольно одного первого стиха. “Ненастный день потух; ненастной ночи мгла...”; “Не дай мне бог сойти с ума...”; “Глагол времен! Металла звон!”; “Опустись, занавеска линялая, / На больные герани мои...”; “Ты опять со мной, подруга осень...”; “Как эта улица пыльна, раскалена! / Что за печальная, о господи, сосна!” Так льнут к сердцу эти интонации, так они обворожительно-неповторимы, что хочется длить этот список бесконечно, благо русская поэзия предоставляет широкие возможности... Ну, еще чуть-чуть: “Я болен, Офелия, милый мой друг!” или “Моего тот безумства желал, кто смежал...” Фет как никто умеет сразу, без предупреждения вонзаться в душу, Блок это уменье унаследовал от него: “Женщина, безумная гордячка!” или совершенно загадочное “Боль проходит понемногу, / Не навек она дана...” Почему, почему так торжественно, так чудно это звучит?
Кажется, что регулярными размерами уже ничего не выразишь. Все, что можно было сказать, сказано. “Звук уснул”. Это, конечно, только кажется. Но это чувство и интуитивные поиски нового приводят к новому звуку. “О, кожаные мешки с большими замками, / Как вы огромны, как вы тяжелы!/ И неужели нет писем от тех, что мне милы, / Которые бы они написали своими дорогими руками?” Как детски-наивно, на удивление безыскусно звучат эти стихи, с небрежной “мешковатостью”, как сказал о Кузмине Мандельштам.
Поэт — это голос. Новый, своеобразный, узнаваемый. Мы теперь понимаем, что это не метафора, что за этим выражением стоит точный смысл. Читая стихи, мы слышим звучание речи и именно оно доносит до нас поэзию. Но определить этот голос можно только метафорически. Скажем, о лермонтовском можно сказать, что он звенит, и некоторая металлическая нотка нас уже от него отдаляет, некрасовский желчный трехсложник тяжеловат, и “одышкой болен / Фета жирный карандаш” — очевидно потому, что речь такая жаркая, задыхающаяся, она настигает с разбегу. Примерно таким образом Наташа Ростова, помнится, говорит о людях: Борис — узкий, серый, как часы столовые, а Пьер — темно-синий с красным — “ Николенька бы понял”. Людям, знающим и любящим стихи, нетрудно договориться в этой манере.
Подведем итоги нашего расследования. Стихи — это речь, поделенная на отрезки при помощи бессмысленной (музыкальной) паузы. Пауза — указатель интонации, такой же, как знаки препинания. Она вводит в письменный текст звучание, Не зависящее от логико-грамматического содержания. Этот свободный звук — интонация неадресованности, необходимый и достаточный признак стихотворной речи, отличающий ее от прозаической. Речь употребляется в функции пения. Из нее вынимается коммуникативная цель. Но это лишь трюк, игра, прием — речь изначально служит связи. Только связь здесь особая, как бы спутниковая, через “провиденциального собеседника”, по выражению Мандельштама.
Создаваемое неадресованностью унифицированное звучание стихотворной речи уравнивает все элементы текста и тем самым делает их (без всякого ранжира) пригодными для выражения смысла. Служебные слова, фонетика и грамматика фразы становятся равноправными выразителями содержания. Так, длина строки становится длительностью звучания, а чередования ударных и безударных слогов — интенсивностью. Как и в устной речи, эти исконные признаки звука передают эмоции. Точно так же свободным звуком приобретается и тембр.
Стих, таким образом, — форма речи, способная фиксировать на письме интонацию. Ускользающая материя устной речи поймана стиховой конструкцией и остановлена. Оттенки смысла, которые в живом общении выражаются звуком голоса, непосредственно (а не описательно) возникают в письменном тексте.
Я полагаю, что поэзия идет по пути усложнения и поисков новых интонаций. Поэзия — интонационное искусство. Ей даны средства, с помощью которых можно задержать, остановить, увековечить летучие мгновенья устного общения, нередко сопровождаемые напряжением всех душевных и умственных сил.
Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук
Хватает на лету и закрепляет вдруг
И темный бред души, и трав неясный запах;
Так, для безбрежного покинув скудный дол,
Летит за облака Юпитера орел,
Сноп молнии неся мгновенный в верных лапах.
1997
Текст дается по изданию:
Невзглядова Е. О стихе. СПб.: Издательство журнала “Звезда”, 2005, с. 938
Звуковая организация и звуковая интерпретация стихотворной речи
В статье “К вопросу о стихе ‘Песен западных славян’ Пушкина” И.С.Трубецкой посетовал на “недостаточно четкое разграничение между теорией стихосложения и теорией стихопроизнесения”, заявив, что стихосложение есть факт языка, а стихопроизнесение — факт речи [Трубецкой Н.С. Избранные труды по филологии. М.. 1987, с. 360]. Стиховедение приняло эту мысль на вооружение, и она долгое время служила исследователям стиха с пользой для дела. Однако прошло три четверти века, и теперь приходится сокрушаться по противоположной причине: между тем, что называется “звуковой организацией”, и тем, что считается “звуковой интерпретацией” стихотворного текста, оказалась воздвигнута стена, которую сами исследователи, наталкиваясь на нее в рассуждениях, пытаются преодолеть. Но безуспешно.
Напевность стихотворной речи упоминается при определении стиха: “Стих есть речь, в которой, кроме общеязыкового членения на предложения, части предложений, группы предложений и пр., присутствует еще и другое членение — на соизмеримые отрезки... Границы этих отрезков общеобязательно заданы для всех читателей (слушателей) внеязыковыми средствами: в письменной поэзии — обычно графикой (разбивкой на строки), в устной — обычно напевом или близкой к напеву единообразной интонацией” [Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха. М., 1984, с. 6]. Но остается неясным, является ли напев стиховым свойством или просто манерой чтения, исторически, традиционно присущей поэтам.
До сих пор полагают, что существуют две равноправных традиции чтения: авторская — напевная и актерская — условно говоря, смысловая. И это несмотря на работу (1923 год!) “О камерной декламации”, в которой Б.М.Эйхенбаум показал, как актер в своем чтении стремится инсценировать смысл стихотворения; как он подменяет стиховой смысл “поистине варварским” представлением о “музыкальной лаконической, а стало быть, приятной для слуха и наиболее удобной для запоминания форме” [Эйхенбаум Б.М. О камерной декламации. /О поэзии. Л.. 1969, с. 515-516. Эйхенбаум приводит совет, который в своих лекциях дает актеру специалист по художественной декламации С.Волконский, - совет вставлять “подразумеваемые слова” или заменять поэтическую строку обыденной фразой. Сонет Пушкина “Поэт, не дорожи любовию народной...” принимает при этом вот такой вид: “Поэт, не дорожи любовию народной. (Катя, не играй моим перочинным ножиком.) (Уверяю тебя) восторженных похвал пройдет минутный шум. (Да то ли еще!) Услышишь суд глупца и смех толпы холодной, но ты (не смущайся) останься (и) тверд, (и) спокоен и угрюм. Ты (ведь) царь: (так) живи один...” И так далее в том же духе. “Стихотворение ‘преодолено’, — говорит Эйхенбаум, — ритм — посрамлен и уничтожен. Актер победил. Но не правда ли — это Пиррова победа?” (с. 518)]. По-прежнему стиховой “напев” объясняют традицией чтения. Но нельзя не заметить, что русская поэзия за три века своего существования настолько изменилась и включает в себя таких разных поэтов (Фет и Маяковский, например), что для поддержания единой манеры произнесения нет никаких оснований. Естественно было бы каждой поэтической системе звучать по-своему. Между тем авторский способ декламации при всем индивидуальном различии в чем-то очень существенном — один и тот же, и независим от времени, школ и направлений, к которым относится поэт. (Ахматова, например, свои “говорные”, по классификации Эйхенбаума, стихи читала напевно.)