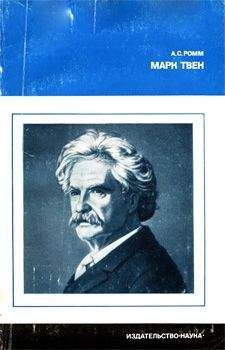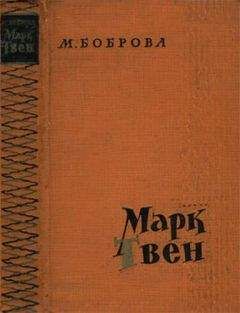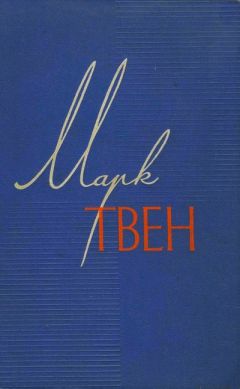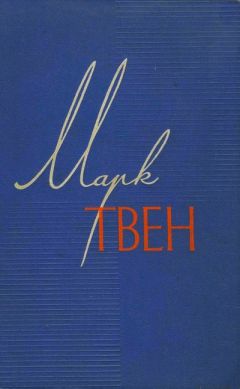Еще в 1890 г. он сделал попытку развенчания человеческой природы. В незаконченном трактате «Что есть человек?» он подверг сомнению идею изначальной чистоты человека, непогрешимости нравственных первооснов его природы. Прирожденным инстинктом людей он объявил их эгоистические импульсы. Но на этом этапе он еще верил в облагораживающую силу воспитания. «Воспитание — могущественный фактор, — писал он, — оно заслуживает внимания, труда, усилий». В последних его работах идея врожденного зла приобретает уже гипертрофированные масштабы. «Злоба ставит его (человека. — А. Р.) ниже крыс, личинок, трихин. Он — единственное существо, которое причиняет боль другим ради забавы и знает, что это — боль… Нетерпимость — это все для себя и ничего для других… Такова основа человеческой натуры, и имя ей — эгоизм» (12, 109, 113).
Так, идея «человека-зверя», подсказанная и позитивистскими теориями, и каннибальскими подвигами империалистов, наносит окончательный удар его «американской мечте».
В лице Твена американский Адам, постепенно убеждавшийся, что его Эдем превратился в бесплодную пустыню, тщетно метался в поисках исчезнувших оазисов человечности.
Характерно, что в одном из сатирических рассказов 90-х годов Твена («Дневник Адама», 1893) сам библейский миф об Адаме подвергается ироническому пересмотру. Переосмысляя его в духе позитивистских теорий, Твен создает образ получеловека-полуживотного (с ударением на втором из этих слов). Так, под напором безжалостной иронии рушились просветительские, руссоистские первоосновы национального мифа. В поздних произведениях Твена осуществлялся «подрыв руссоизма под самый корень»[97]. «Американская мечта» лишалась своего исконного просветительского прибежища. «Возвращение к природе вместо того, чтобы воспитать в человеке идиллические, аркадские добродетели, сделало людей еще более животно-грубыми, лишив их атавистические качества всякого оттенка романтики!»[98]. Характерно, что писатель, утративший веру в американский Эдем как в религиозном, так и в философском значении этого символического понятия, пытался сконструировать особый новый «рай» не только для того, чтобы высмеять традиционное филистерское представление о загробном блаженстве, но и с тем, чтобы обрести в нем хотя бы скромное местечко для отовсюду изгоняемой демократической утопии. Обе эти тенденции диковинным образом совместились в его рассказе «Путешествие капитана Стромфилда на небеса» (1907). Над этим произведением Твен работал на протяжении нескольких десятилетий, и оно носит отпечаток его идейных метаний. Сотворенный им «рай» оказался довольно противоречивым мироустройством. На равных правах в нем сосуществовали и принципы восстановленной социальной справедливости, и заботливо соблюдаемый «табель о рангах». Обездоленные, гонимые и непризнанные сыны человечества здесь получают воздаяния за свои земные страдания. В то же время высшие ангельские чины — архангелы и пророки — ведут себя, совсем как зазнавшиеся аристократы, не снисходя до общения с «простым людом». В довершение всего причудливая космогония, еще не утратившая сходства со своим первоматериалом — первозданным хаосом, втиснута в рамки жесткой и несгибаемой бюрократии. Райское блаженство капитана Стромфилда, пожалуй, обретает характер реальности лишь в те счастливые мгновения, когда он отбрасывает в сторону официальное «обмундирование» праведников: крылья, арфу, нимб и пальмовую ветвь.
Единственное, что оказалось здесь по-настоящему приятным, — это возможность избавления от филистерских атрибутов райского блаженства этой маски, сфабрикованной церковью по заказу ханжей и лицемеров. Сколь ни парадоксально, частичная демаскировка происходит здесь и с самим автором рассказа. В ироническом и скептическом «раю» Твена (в отличие от дантовского ада) есть место для надежды. Она живет в самой атмосфере его «прелестной фантазии, полной юмора философской сказки для взрослых»[99]. Твен-сатирик оставался и юмористом, а Твен-мизантроп — гуманистом и демократом. Эту «тайну» выдает не только исполненный комизма рассказ о капитане Стромфилде, но даже самые мрачные и безрадостные произведения писателя. Его пессимизм, позитивизм и мизантропия были парадоксальной формой его гуманизма, за ними стояла неистребимая любовь к человеку. Ведь даже его звероподобный Адам в финале рассказа неожиданно обнаруживает способность к преображению. Обстоятельное повествование о его скотских похождениях заканчивается кратким сообщением о пробудившейся в нем любви к его подруге Еве. И это истинно человеческое чувство, по-видимому, разбудит в животном дремавшего в нем человека.
Эта же неизбывная вера в возможность «пробуждения» людей, парадоксально сочетавшаяся с настроениями неверия и отчаяния, отразилась и в самом трагически безысходном произведении Твена — повести «Таинственный незнакомец» (1898). В этом произведении Твен вновь обратился к теме детства, неоднократно воскресавшей под его пером и на позднем этапе его творчества. «Перетряхивая» свои старые сюжеты, он пытался под новым знаком возродить своих прежних героев Тома и Гека, но его поздние повести о Томе Сойере и Геке Финне («Том Сойер — сыщик», 1896; «Том Сойер за границей», 1897) отнюдь не входят в число творческих удач их автора.
Жизнерадостный, обаятельный юный бунтарь Том Сойер превращается здесь в филистера, готового ретиво защищать нормы буржуазной религии и морали. Но его образ лишен жизненной силы и убедительности. Этих качеств не хватает и другим героям романа — Геку и Джиму. Их образы утратили свою реалистическую глубину, выразительность. В них нет прежней непосредственности, простоты, и отсутствие этих качеств нельзя было компенсировать искусственными приемами, к которым прибегает Твен в обеих своих книгах, создавая вокруг героев экзотический фон и заставляя их переживать удивительные приключения.
Поздний Твен — жестокий сатирик, пером которого водила жгучая ненависть к буржуазной цивилизации, собирался продолжать повествование о Томе и Геке в характерном для него пессимистическом направлении. Рисуя картину мрачного будущего своих героев, в одной из дневниковых записей 1891 г. Твен пишет: «Гек возвращается домой. Бог знает откуда. Ему 60 лет, спятил с ума. Воображает, что он еще мальчишка, ищет в толпе Тома, Бекки и проч. Из долгих блужданий приходит Том. Находит Гека. Вспоминают старое время. Жизнь оказалась неудачной. Все, что они любили, все, что считали прекрасным, ничего этого уже нет. Умирают» (12, 499). Разумеется, лишь в итоге больших внутренних потрясений, огромных разочарований, невосполнимых утрат писатель мог написать эти скорбные строки.
Повесть о Геке и Томе, состарившихся, разочарованных, измученных жизнью, никогда не была написана, быть может, потому, что Твен не мог проявить такую жестокость по отношению к своим любимым героям, в которых воплотились его лучшие идеалы и стремления. Но элементы этого замысла воплотились в его повести «Таинственный незнакомец». Особняком стоящая среди романов и повестей писателя, она поражает своей мрачной безысходностью, своим трагическим колоритом.
На страницах «Таинственного незнакомца» читатель снова встречает веселых и беззаботных детей, в образах которых под «обратным знаком» как бы воскресли черты Тома Сойера, Джо Гарпера, Бекки Тэчер. Правда, они живут не в Америке XIX в., а в австрийской деревушке XVI столетия, но, несмотря на свои средневековые костюмы, они несомненно сродни американским ребятишкам из Санкт-Петербурга. Им свойственны такая же жизнерадостность, такая же неистощимая изобретательность в играх и шалостях. Но вот в этот радостный мир приходит некий таинственный незнакомец, окруженный атмосферой мистической тайны, он зовет себя сатаной; из его уст дети слышат горькие, страшные слова о бренности и тщете всего земного, об обреченности всех человеческих надежд и стремлений. «Я говорю тебе правду, нет ни бога, ни Вселенной, ни человечества, ни земли, ни неба, ни ада. Это все сон, чудовищный, нелепый сон…» И под действием этих безотрадных речей угасает кипучая жизнерадостность маленького слушателя сатаны, ибо он чувствует, что таинственный незнакомец прав. Прав он и тогда, когда говорит о глубокой порочности людей, считая их недостойными ни любви, ни снисхождения и проявляя милосердие лишь к животным, как к существам, в которых еще есть нечто от первозданной чистоты и гармонии. Союз человека и природы — лишь светлая мечта ребенка, которой нет места в страшном мире, заселенном апокалиптическими видениями. И все-таки эта мрачная доктрина опровергается самим текстом скорбного и трагического произведения. «Таинственный незнакомец», вне всякого сомнения, был «пересмотром санкт-петербургской идиллии, потребность в котором мучила и волновала Твена на протяжении всех 1890-х годов»[100]. Патриархальный провинциальный городок в позднем рассказе Твена преобразился в мрачное царство жестокости и несправедливости. Но сам образ детства по-прежнему противостоит мраку и жестокости мира взрослых. Недаром таинственный незнакомец удостаивает своей дружбой маленького Теодора. Он знает, что, хотя «богу чуждо понятие нравственности» (как пишет Твен в одном из своих, писем), в душе человека живет нравственное чувство и он становится злым лишь в условиях «злого» общества. «Твен, безусловно, подвергает осмеянию не некую изначальную нелепость мира, а то, что в этом мире творится»[101].