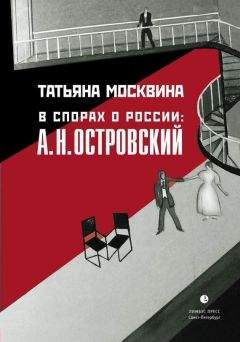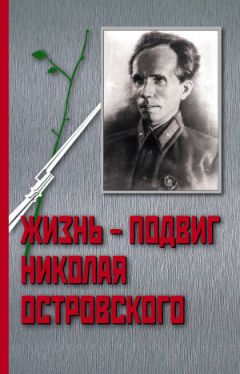Комментировать тут, в сущности, нечего — чистейшей прелести чистейший образец. В мире сказочного Замоскворечья, где ведут свои дивные речи маменька и сынок, все по счастью да от случая («мы никуда на верное не ходим», скажет Бальзаминов), собаки у приказчиков как львы, богатые невесты все на одно лицо и все бедным женихам красавицами кажутся, даже те, что «уж оченно полны». Оттого и в снах далекая страшная империя смешивается с московским торговым приделом и размножается с Божьей помощью, так что и выходит — Китай на нашей стороне, да еще не один, а Мишеньке как раз выпадает в этой, последней, части трилогии искомое счастье.
«Китай на нашей стороне» — назвал свою театральную фантазию режиссер Георг Васильев, пленившись именно этим пассажем Островского. В основе его композиции, осуществленной на сцене театра «Приют комедианта», вторая, самая малонаселенная часть трилогии («Свои собаки грызутся, чужая не приставай»). Там Мише Бальзаминову никакого счастья нет, наоборот, его изгоняют с позором. Конечно, это куда ближе депрессивному питерскому мироощущению и творческой манере Г. Васильева, если судить по предыдущим работам режиссера («Записки сумасшедшего», «Старосветские помещики»).
Островского Васильев прежде всего «обгоголевил» — ведь чувство роковой недостижимости счастья, конечно, принципиально гоголевское. У Островского как раз всякое случается — бывает счастье, бывает и несчастье. Все бывает. Гоголь на этот счет — на счет достижимости людьми личного счастья — в своих художественных высказываниях промашки не дает: ни-когда. И Васильев поручает Бальзаминова своему любимому и заветному артисту, Валерию Дьяченко. Эти бледные впалые щеки, задумчивые потусторонние глаза, слабая улыбка тихого безумия, издерганная, взнервленная пластика, приступы внезапного бурного комизма питерские зрители хорошо знают, и Бальзаминов В. Дьяченко — глубокий родственник гоголевскому Поприщину.
Но режиссер Островского не только «обгоголевил», а еще и «обкитаил». В натуральную величину. Применив разные аксессуары и приемы китайского театра, в котором действительно (да наверняка!) есть юморески о том, как сильный и хитрый мужчина победил слабого и глупого в борьбе за красавицу. В результате получилось очень оригинальное зрелище, и, я думаю, в Москве критики были бы в восторге. Ведь они умеют читать только поверхность сценического текста, самый первый план, ну а по части постановочной изобретательности наш Васильев превосходит какую-нибудь Нину Чусову раз в пятьдесят. Это ведь не пересказать, чего он только не навертел в двухчасовом своем «Китае на нашей стороне».
Четверо отличных актеров: Дьяченко, Ирина Соколова (маменька, она же сваха), Ольга Карленко (Антрыгина), Игорь Ларин (Устрашимов). На сцене два больших сундука, в них спят мама с сыном, сверху свисают прутяные фонарики, но вместо лампочек у них клубки разноцветной шерсти. Здесь идет театральный снег, и Бальзаминов в ушанке скользит на лыжах — но письма пишут на огромных веерах, и музыкант в глубине сцены сидит нешуточный, заводит китайскую пыточную музыку. Щеки красавицы раскрашены, как у матрешки, и говорит она ненастоящим голосом — а свахи никакой нет и не было, это маменька взяла в руки куколку и запищала, подбадривая сынка, чтобы помочь недотепе.
Китайщина идет крещендо — за сердце красавицы соперники состязаются уже как чистые драконы, вращая языками и всей своей пластикой показывая, что это вот и есть наш русский китайский театр. Вот такая расписная оболочка, а в ней грустный клубочек действительности, в которой нищие мама и сын, очевидно, спиваются в своей коммуналке, мечтая о богатстве. У Соколовой и Дьяченко, когда они просто говорят, печалятся, перекоряются, есть эта вековечная обреченность бедняков друг на друга, и понимание, и тоска, и теплота душевная. Только бурная китайская раскраска эту настоящую, реалистическую и очень верную ноту заглушает, подминает. Мне кажется, лучше было бы резче отделить и подчеркнуть, чтоб зрителю было ясно — вот наш питерский быт, с треснувшей клеенкой на столе и сервантом 1973 года издания, а вот мечтания, кукольный театр, наш сочиненный, выдуманный Китай, где не китайцы и китайки, а мы, но веселые, нарядные, вольные, и там у нас все получается, а здесь не получается ничего. То есть я зачем-то советую режиссеру подчинить второстепенные мотивы главной теме, а тему эту особо выделить и твердо вести. Это я глупость делаю, но с возрастом критики вообще делаются маловменяемыми.
Исступленное мечтательство героев, бедность как явление не только материальной, но и душевной жизни — все это есть у Островского наряду со многим прочим. И Васильев тут ему ничего не приписал, разве что увлекся своим домашним Китаем, который тоже ведь нашел в зародыше у Островского. И спора нет. Я только хочу сказать, что режиссер нашел у автора то, что и хотел найти, то же самое, что в нем, в режиссере, и раньше было, а все остальное отложил, отодвинул. А может, там, в отложенном-то, в отодвинутом-то, и было счастье?!
«Бешеные деньги» — самую эффектную, написанную будто на спор, что не хуже, чем у французов-англичан получится, пьесу Островского — поставили в прошлом году в Театре юного зрителя. Совершенно справедливая идея. Именно юных зрителей следует нынче учить, что за деньги нельзя, а надо по любви. Ярославский режиссер Александр Кузин добросовестно собрал все минималистские штампы последнего театрального пятилетия: оркестр на сцене, кубики вместо стульев, преобладание белого цвета в одежде, отсутствие быта и обихода. Островского тут играют как салонную комедию Оскара Уайльда — холодновато, в пышных костюмах, чеканя репризы, и, надо заметить, доля правды в таком подходе есть. «Бешеные деньги» — камерная, на пятерых героев, комедия из светской жизни с любовной интригой в центре. Некоторая «салонность» допустима, если актеры помнят, что все-таки место действия пьесы не Париж, а Москва. И так уже есть некий грустный юмор, что про бешеные деньги, наследства, мотовство, золотые прииски и страсть к роскоши играют артисты стесненного в средствах бюджетного театра, и если прототипы этой комедии при жизни автора могли заглянуть за кулисы к корифеям, скажем, Малого или Александринского театров, поскольку обретались рядышком, то нынешние прожигатели жизни и сколачиватели миллионных капиталов вряд ли знакомы даже и с местоположением Театра юного зрителя. И некоторый отпечаток провинциальной отваги в спектакле существует: в неловкой пластике актрисы Анны Дюковой (Лидия Чебоксарова), вынужденной двигаться в чрезмерно роскошных нарядах от Михаила Воробейчика, чей изобретательный талант плохо уживается с авторской стилистикой и обстоятельствами театров; в опереточной манере существования обаятельных резонеров пьесы, поэтов безделья, Телятева и Глумова; в периодических убыстрениях механического темпа, сходящих за комедийную легкость, и так далее. Проблема в том, что автор, яко гений, мог совмещать бытовую достоверность и психологическую глубину с беспечной воздушностью отменно развлекательного жанра, а воплощать такое сложно, и актеров подобного склада у нас мало. Вот Андрей Миронов такой был. Сейчас в Петербурге такими бывают Александр Баргман, Сергей Бызгу. Но это редчайший дар. В тюзовском спектакле отчетливо выделяются двое артистов старой школы — Игорь Шибанов (Кучумов) и Сергей Надпорожский (слуга Василькова). Они так и не отвыкли степенно работать над характерами, потому в них чувствуется добротная обстоятельность, но дополненная обаятельной непринужденностью, тоже присущей старому ТЮЗу. Поэтому веселый старый врунишка князь Кучумов и наполненный комическим и непоколебимым чувством собственного достоинства слуга оказываются стилистически самыми точными и цельными персонажами.
В целом же, по мере развертывания сюжета, Островский берет свое, зрители захвачены историей о том, как он ее любил, а она над ним смеялась, а он решил ей отомстить, а она поняла свою ошибку. Все перипетии взаимоотношений хорошего провинциального мужичка с испорченной столичной гадюкой понятны и принимаются по реальной стоимости. Надо заметить, обстановка спектакля многих зрителей скорее раздражала, они ворчали: «Это не Островский», но ворчали неагрессивно, потому что актеры им скорее нравились и уж безусловно их устраивал автор.
Анатолий Праудин перенес свою «Бесприданницу» из комнаты на малую сцену Балтийского дома, и, говорят, спектакль что-то в процессе переезда потерял. Не берусь судить — в комнате не видела, а, глядя на этот камерный эпос о распаде человеческой души, вспомнила слова своего учителя Евгения Соломоновича Калмановского. «Если уж это нам не нужно, тогда что вообще нам нужно?» — как-то сердито сказал он о каком-то серьезном произведении. Вот и мне кажется, если человеку пишущему-рассуждающему о театре не нужна праудинская «Бесприданница», то что ему вообще нужно? О материи или бумаге, насквозь пропитанной маслом, говорят: промасленная. Постановка Праудина пропитана мыслью настолько, что о ней хочется сказать: промысленная. Спектакль внятно и подробно описан, а я только хочу упомянуть свои маленькие радости. Я хорошо знаю тексты Островского и часто мучаюсь в театре, когда их перевирают или грубо купируют. Праудин, ясно видно, с пьесой провел не дни, а долгие месяцы. Купюр в его спектакле не столь уж много, но ясен их смысл, их направление — иногда срезаны особые эпические красоты рассказа, чтобы актер, не уныривая в блеск текста, сыграл то, что автор написал. А так сохранено изрядно, сохранены, что важно, внутренние ритмы монологов и диалогов. Я смотрела спектакль в молодежной аудитории. Во время двух главных объяснений Паратова и Ларисы, когда герои раскрывают перипетии своей душевной жизни и обоюдных чувств, зрители замирали и превращались в слух. Было впечатление, что они жадно учат наизусть формулы признаний, сами фразы, порядок слов — как говорить о любви, как объясняться в сложных ситуациях…