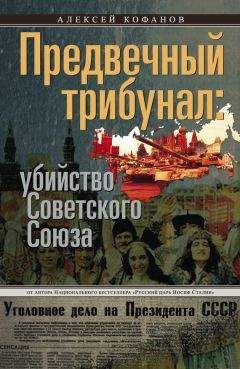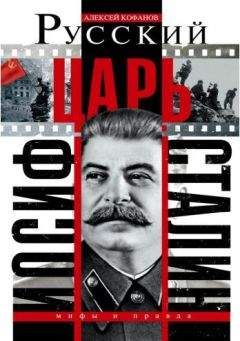– В феврале 1988-го заполыхал Нагорный Карабах, детонируя цепную реакцию кровавых гейзеров в Тбилиси, Оше, Сумгаите, Баку, Южной Осетии, Вильнюсе, Тирасполе, – продолжал Олейник. – Я вам больше скажу: с 15 по 18 мая 1989 года Горбачев был с визитом в Пекине. И что случилось там 4 июня? Кровавое столкновение на площади Тяньаньмэнь! Везде, где оказывался наш уважаемый Михаил Сергеевич, он сеял смерть и разрушение. Списать это на случайность, конечно, можно – но уж слишком велика концентрация.
– Борис, опять ты за свое! – возмутился подсудимый. – Уймись уже.
Но Судья сказал иное:
– Спасибо, свидетель, ваша информация очень интересна. Мы постараемся ее уточнить по своим каналам. Вы имеете что добавить?
Олейник усмехнулся:
– Говорить можно до бесконечности! Но так, чтобы что-то действительно новое и принципиальное, – пожалуй, нет.
Он удалился. Повезло литератору. Сможет написать по поводу увиденного здесь поэму, вроде Данте…
А у меня вдруг засвербела очень любопытная идея. Вернее, пришла она раньше, когда Олейник генсека увидал и успокоился. Аж толкнуло что-то. Но перебивать нехорошо, а сейчас пауза…
Я встал:
– Михаил Сергеевич, вот вы постоянно обвиняете Сталина – тиран, недемократичен, репрессии проводил…
Генсек величаво кивнул:
– Безусловно. И я вам скажу, это все истинная правда.
У меня внутри все зачесалось, потому что момент настал. Я сказал вкрадчиво:
– Насколько я понял, у Трибунала нет ограничений, он может приглашать людей как живых, так и давно ушедших… Не хотели бы вы высказать все это Сталину в лицо?
Горбачев, видимо, еще не понял, о чем речь; его лицо ничего не выражало. Но тут немного смутился Судья:
– Не знаю, удастся ли вызвать данного свидетеля. Иосиф Виссарионович плотно занят в Высшем Совете Мира, и найдет ли он время для нашего процесса… Но мы сделаем все возможное. Оформите запрос, пожалуйста.
Секретарь встал, собрал какие-то бумаги, вышел из-за стола и направился в правый угол.
– Я протестую!!
Зал вздрогнул и начал озираться. Это был визг затравленного зверя. Кто кричал?!
– Протестую, – повторил Горбачев, вскочив и нервно потирая руки. – Не зовите Сталина!
Сейчас он говорил своим обычным голосом, только задыхаясь – но откуда у него прорезался такой надрывный писк?
Однако Секретарь невозмутимо шел дальше, к дверце, которую я раньше не замечал. Куда она ведет, интересно? Он уже протянул пальцы к дверной ручке – и Горбачев вновь завизжал, размахивая руками, будто утка, пытающаяся взлететь:
– Остановите!! Остановите же его!!!
– Но почему? – спросил Судья, пристально на него глядя.
– Я… Мне… – мямлил генсек, не решаясь что-то вымолвить. – Господа, я вас умоляю…
Секретарь приостановился. Судья повернул голову:
– Что скажет обвинение?
– Иосиф Виссарионович Сталин – важнейший свидетель, – ответила Прокурор. – Его присутствие на процессе крайне желательно.
– Послушайте… Вы же женщина, вы же человек, – залепетал меченый толстяк. – Я прошу вас: откажитесь! Я…
Видно было: от испуга его вот-вот хватит удар. Он дрожал и теребил толстыми пальцами лацканы пиджака. Прокурор смотрела на него несколько секунд; видно было по лицу, как в ней пробуждается русское, душевное, но абсолютно излишнее сейчас сочувствие… Она опустила глаза:
– Обвинение не настаивает на приглашении свидетеля Сталина.
Горбачев рухнул в кресло, задыхаясь. Пот струился по его лицу, ворот рубашки потемнел.
– Врач нужен? – сухо позаботился Судья.
Подсудимый лишь отмахнулся.
Он мучительно переживал, что не сумел сдержать эмоции; однако перспектива была чудовищной. Несмотря на безумные странности Трибунала: сам факт обвинения, мертвых свидетелей, выплывание правды, которую все давно должны были забыть, – он все равно страстно надеялся, что спит, или бредит, или кто-то злобно подшутил над ним, и нет никакого посмертного бытия. Материализм прав, мертвецы дохнут насовсем, и само время избавило его от встречи с людьми, перед которыми он тяжко, непоправимо виноват!
И вдруг – прямо сейчас, лицом к лицу…
Он уже начал успокаиваться. Но внезапно воображение, будто глумясь, ярко нарисовало ему многократно виденное на портретах: полувоенный костюм, зачесанные назад волосы, усы, взгляд, от которого ничего не скроешь… Гад! Гад!! Гад!!! Что ты пялишься, дохлый тиран, мразь, кровопийца! Я… Я… Да я тебя!.. Гад… Иосиф… Виссарионович… простите… Христа ради… умоляю…
Горбачев задрожал, и пот опять покатился с него крупными каплями. Даже, кажется, в штанах потеплело и зажурчало от ужаса. Хорошо, под столом не видно…
Сорвалась моя очная ставка. Жаль: все прояснилось бы для всех за минуту… Ну да ладно! Что мы, нелюди – так над стариком издеваться? Он все еще тяжко дышал, вытирал платком очки и лысину, креслом скрипел. Даже Адвокат от него отвернулся.
Следовало как-то разрядить обстановку, успокоиться; и я предложил выслушать текст еще одного советского писателя. Фронтовик, реалист, патриот – как он видел перестройку?
Выступление Ю. В. Бондарева на XIX партконференции[93]
29 июня 1988 года
Оперативный документ № 6
Дорогие товарищи! Нам не нужно, разрушая прошлое, добивать свое будущее. Мы против того, чтобы наше общество стало толпой одиноких людей, добровольным узником коммерческой потребительской ловушки.
Можно ли сравнить перестройку с самолетом, который подняли в воздух, не зная, есть ли в пункте назначения посадочная площадка? При всей дискуссионности, спорах о демократии, о расширении гласности, разгребании мусорных ям мы непобедимы в единственном варианте, когда есть согласие в нравственной цели перестройки. Только согласие построит посадочную площадку в пункте назначения. Только согласие.
Недавно я слышал фразу молодого механизатора: «У нас в совхозе такая перестройка мышления: тот, кто был дураком, стал умным – лозунгами кричит; тот, кто был умным, вроде стал дураком – замолчал, газет боится. Знаете, что общего между человеком и мухой? И муху и человека газетой прихлопнуть можно». В этих словах я почувствовал и злость человека, разочарованного одной лишь видимостью реформ, но также и то, что часть нашей печати использовала перестройку как дестабилизацию веры и нравственности.
Даже серьезные органы прессы оказывают внимание рыцарям экстремизма, подвергая сомнению все: мораль, мужество, любовь, искусство, талант, семью, великие революционные идеи, гений Ленина, Октябрьскую революцию, Великую Отечественную войну. И эта часть нигилистической критики становится командной силой в печати, ошеломляя читателя и зрителя сенсационным шумом, бранью, передержками, искажением исторических фактов.
Подорвано доверие к истории, к старшему поколению, к совести, к справедливости, к объективной гласности, которую то и дело обращают в гласность одностороннюю: оговоренный лишен возможности ответить.
Безнравственность печати не может учить нравственности. Гласность и демократия – это высокая моральная и гражданская дисциплина, а не произвол, по философии Ивана Карамазова. Уже не искание объективной истины, не дискуссия, не выявление молодых талантов, а размывание критериев, моральных опор, травля и шельмование крупнейших писателей, режиссеров, художников, таких как Василий Белов, Виктор Астафьев, Петр Проскурин, Валентин Распутин, Анатолий Иванов, Михаил Алексеев, Сергей Бондарчук, Илья Глазунов. Слова «Отечество», «Родина», «патриотизм» вызывают в ответ некое змееподобное шипение: «шовинизм», «черносотенство».
Печать разрушает наши национальные святыни, жертвы народов в Отечественную войну, традиции культуры, то есть стирает из сознания людей память, веру и надежду – и воздвигает уродливый памятник нашему недомыслию, геростратам мысли, о чем история будет вспоминать со стыдом и проклятиями так же, как мы вспоминаем эпистолярный жанр 37-го и 49-го годов.
Когда я читаю в нашей печати, что у русских не было и нет своей территории, что произведения Шолохова пора исключить из школьных программ и вместо них включить «Дети Арбата», что стабильность является самым страшным, что может быть (то есть да здравствует развал и хаос), что писателя Булгакова изживал со света «вождь», а не группа литераторов во главе с Билль-Белоцерковским, требовавших высылки за границу талантливейшего конкурента, когда слышу, что генерал Власов боролся против Сталина, а не против советского народа, – когда я думаю обо всем этом, встречаясь с молодежью, то уже не удивляюсь тем пропитанным неверием, иронией и безнадежностью вопросам, которые они задают.
Наша экстремистская критика со своим деспотизмом, бескультурьем и цинизмом хочет присвоить себе звание «прораба перестройки». Главный ее постулат: только при хаосе, путанице, неразберихе, интригах мы сможем сшить униформу мышления, выгодную лично нам.