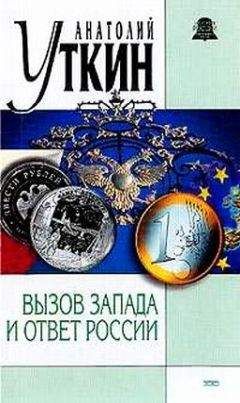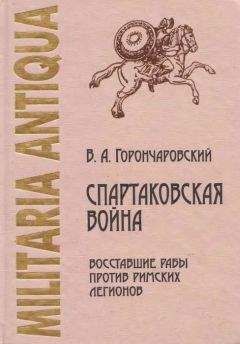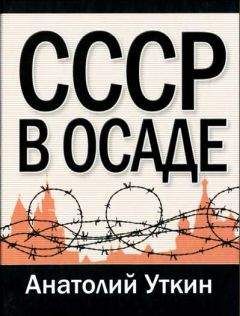Петровское восхищение Амстердамом начинает увядать. Возникает довольно энергичная проазиатская оппозиция. После подавления польского восстания 1830 года именно в Москве формируется целое мощное движение в пользу развития связей с Азией. Губернатор Москвы Растопчин начал выводить свою генеалогию не от Рюриковичей, а от Чингиз-хана. «Мы должны овосточиться, стать больше Востоком, чем Западом», — писал В.Г. Белинский — ведущий критик эпохи). Характерны проявления высокомерия в отношении Запада. Ранние славянофилы жалуются, что русское движение в Центральную Европу оказалось остановленным. Пора России подумать о гигантских азиатских просторах, где ее энергия получит более гарантированные результаты. Уваров уже в 1810 году ратовал за открытие в России Азиатской академии. На гребне волны, последовавшей за подавлением польского восстания, Уваров встал во главе антизападных сил. Проуваровские критики призвали публику «овосточиться». Такие авторы, как Рафаил Зотов, начали восхвалять монгольских героев чингизхановской эпохи. В пьесе 1823 года «Юность Ивана III» у русского царя появляется монгольский воспитатель. В 1828 году публикуется антология монгольских поговорок. В обществе культивируется аристократическое презрение к текущему обуржуазиванию Запада, к массовой западной прессе, «низведшей слово с трона».
В идеальном обществе Уварова господствовали не личные совершенства и не рациональное его построение, а иерархия, управляемая теми немногими, кому доступна истина управления. Уваров сражался с декартовским поклонением логике. Его толстый «Журнал министерства народного образования» был своего рода заслоном на пути более близкого знакомства с современными западными теориями и анализа их. В результате такой политики Запад, приблизившись физически (улучшились дороги и впереди показался дым паровозов), несколько отступил в умозрительной сфере вследствие консервативного влияния царя Николая Первого и его окружения.
Главный акцент был сделан, как уже говорилось, на перенос центра внимания с французского просвещения на германскую упорядоченность и регламентацию. Женатый на прусской принцессе, Николай Первый был близок со своими прусскими родственниками — королями Фридрихом-Вильгельмом Третьим и Фридрихом-Вильгельмом Четвертым. Огорченный современник заметил: «Немцы завоевали Россию в то самое время, когда должен был завершиться процесс их собственного завоевания русскими. Случилось то же, что произошло в Китае с монголами, в Италии с варварами, в Греции с римлянами». Немецкий романтизм и немецкая механическая дисциплина были противопоставлены раскрепощенной энергии британцев и галлов.
Николая Первого по некоторым внешним признакам нередко сравнивали с Петром Первым: военная жилка, восхищение вооружением, восхищение военным порядком, приход к власти после внутреннего брожения и подавления внутреннего восстания. Но Петр Первый открыл пути за Запад, в то время как Николай Первый постарался их почти закрыть. Если Петр восхищался в жизни всем практическим, то Николая привлекало все абстрактное. Гегеля он в Россию допустил легко, а железные дороги — с трудом. Николая восхищали обсерватории, но не доменные печи.
Действие рождает противодействие. Человеком, который со страстью и талантом взялся за обоснование необходимости для России сближения с Западом, стал Петр Чаадаев. Вместе с русской армией, преследующей Наполеона, восемнадцатилетний Чаадаев открыл для себя Западную Европу. Будучи признан самым светлым умом в гвардейском Семеновском полку, он вышел в отставку и, поселившись в Швейцарии, стал обозревать философский горизонт Запада. Встречи с такими философами, как Шеллинг, расширили его представления об окружающем Россию мире, о смысле русской истории, о значении Запада для России. В 1836 году он опубликовал первое из восьми философских эссе, посвященных смыслу русской истории. Так началась знаменитая дуэль славянофилов и западников, и в этой разворачивающейся дискуссии по поводу судеб России Чаадаев выступил блестящим апологетом западничества.
Написанные по-французски, письма Чаадаева не оставляли места сомнениям, на чьей стороне его симпатии. Чаадаев, как никто другой до него, поставил вопрос, что значит Запад для России, и что Россия значит для Запада. Впервые так убедительно было указано на различие в историческом развитии, определяющее характер будущих взаимоотношений двух регионов. Восхваляемая местными патриотами Москва — это город мертвых, где живая жизнь остановилась в слепом поклонении застывшим обрядам. Наличие в истории России творческого начала было в письмах Чаадаева поставлено под сомнение. Россия виделась пока еще лишь фактом географии, а не мировой истории. Чаадаев придавал большое значение отторжению России от западного христианства. Отделение восточной церкви от западной отрезало Россию от Запада. «Мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, и у нас нет традиций ни того, ни другого». Казалось бы, «стоя между главными частями мира, Востоком и Западом, упираясь одним локтем в Китай, другим в Германию, мы должны были соединить в себе оба великих начала духовной природы: воображение и рассудок, и совмещать в нашей цивилизации историю всего земного шара. Но не такова роль, отведенная нам Провидением… (мы) одиноки в мире». П.Я. Чаадаев говорил самые горькие слова о малости российского вклада, об увлечении обманчивой внешностью, о культурной бедности российской цивилизации. Но вывод заключал не о пользе заимствований: «Нам незачем бежать за другими; нам следует откровенно оценить себя, понять, что мы такое, выйти из лжи и утвердиться в истине. Тогда мы пойдем вперед, и пойдем скорее других, потому что пришли позднее их, потому что мы имеем весь их опыт и весь труд веков, предшествовавших нам».
А.С. Пушкин, не соглашаясь с основными оценками Чаадаева, все же счел необходимым написать критику российского общества: «Наша общественная жизнь — грустная вещь».
Хотя Чаадаев был одним из самых видных идеологов западничества, им же была создана и критическая платформа, осуждавшая примитивное западничество. Он в полной мере понимал трудности приобщения к Западу: «Молодое поколение мечтало о реформах в стране, о системе управления, подобных тем, какие мы находим в странах Европы… Никто не подозревал, что эти учреждения, возникнув из совершенно чуждого нам общественного строя, не могут иметь ничего общего с потребностями нашей страны… Каково бы ни было действительное достоинство различных законодательств Европы, раз все социальные формы являются там необходимыми следствиями из великого множества предшествующих фактов, оставшихся нам чуждыми, они никоим образом не могут быть для нас пригодными». Это здоровое сомнение ставит П.Я. Чаадаева на ту высоту, с которой он может смело отметать примитивную практику плоского заимствования. Это «более глубокий взгляд, нежели чисто просветительская уверенность, что политические или экономические достижения развитых стран могут быть прямо пересажены на почву обществ, отставших в своем развитии».
Критическими представлялись Чаадаеву два эпизода русской истории — окончание Смутного времени, когда все же был положен конец внутренним распрям и восстановлено национальное существование, и петровские реформы, так или иначе воспринятые народом.
И все же, все наиболее жизненное зарождается не в народной массе, а приходит со стороны Запада. Но, возможно, такое отсутствие всемирно значимой истории лишь залог блистательного будущего страны — Чаадаева можно было трактовать так, что неучастие в европейском (авангардно-мировом) процессе избавило Россию и от бесчисленных ошибок, заблуждений Запада. Кто знает, может быть ей суждено, войдя в процесс западного развития, указать верное его направление. В текущий момент Россия не готова к такому подвигу — «замутненное Аристотелем» православие неспособно избежать поворота к материализму.
Чаадаев, с его неистовым интересом к Западу, искал в регионе-авангарде оптимальный путь для России. Он колебался между католицизмом и современными ему версиями западного социализма. Только в них, вносящих в общество дисциплину и чувство цели, он видел выход для России.
Еще один получивший в России известность противник российской ортодоксии — Печорин, ставший католическим священником в Ирландии, предрекал России великую судьбу только в случае реализации политики теснейшего сближения с Западом, восприятия коренных идей Запада, включая религиозные. Декабрист Лунин видел свет для России в идеях Сен-Симона. Он, как и Чаадаев, принял католичество. Сен-Симон, один из идейных лидеров Запада, поучал Лунина: «Со времен Петра Великого вы расширяете свои пределы; не потеряйтесь в бесконечном пространстве. Рим был уничтожен собственными победами». Идея необходимости превалирования интенсивного развития над экстенсивным стала главенствующей в русском западничестве.