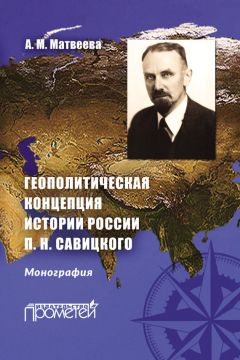Здесь евразийцы, как славянофилы и народники, разделяли историю послепетровской России на два уровня: дворянско-аристократический и народный. Верхи шли путем западничества, калькировали с большей или меньшей степенью неуклюжести европейские образцы. Они были как бы “колониальной администрацией” русских пространств, цивилизационными надсмотрщиками за “диким народом”.
Низы, этот самый “дикий народ”, напротив, оставались в целом верными допетровскому укладу, бережно сохраняли элементы святой старины. И именно эти донные тенденции, все же влияющие в какой-то степени и на верхи, и составляли все наиболее евразийское, ценное, национальное, духовное, самобытное в петербургской России. Если Россия так и не стала восточным продолжением Европы, несмотря на все “романо-германское иго”, то только благодаря народной стихии, “евразийским низам”, осторожно и пассивно, но упорно и несгибаемо противившимся европеизации вглубь.
С точки зрения элиты, петербургский период был катастрофическим для России. Но это отчасти компенсировалось общим “почвенным” настроем евразийских масс.
Такая модель русской истории, отчетливо изложенная у Трубецкого, предопределяла и отношение евразийцев к Революции.
5. Революция: национальная или антинациональная?
Анализ евразийцами большевистской революции является осевым моментом этого мировоззрения. Его особенность и отличала представителей этого направления от всех остальных мировоззренческих лагерей.
В белом стане доминировали два общепринятых взгляда: реакционно-монархический и либерально-демократический. Оба они рассматривали большевизм как строго негативное явление, хотя и по полярным соображениям.
Реакционное крыло, монархисты утверждали, что “большевизм” — это целиком западное явление, результат “заговора” европейских держав с “инородцами” и “евреями” в самой России, направленный на уничтожение последней христианской Империи. Эта группа идеализировала Романовых, всерьез верила в уваровскую формулу “Православие, Самодержавие, Народность”, придерживалась “черносотенных мифов” о “иудо-масонском всемирном правительстве”, винило во всем дряблость дореволюционных властей, несовершенство карательного аппарата и предательство разночинной интеллигенции. Революция виделась в такой перспективе как занесенная извне зараза, развитию которой помогли случайные и чуждые системе элементы. Сама же предреволюционная Россия в своих мировоззренческих и социальных основах представлялась этому лагерю как нечто абсолютное.
Либеральное крыло белой эмиграции считали большевизм абсолютным злом по совершенно противоположным причинам. Им в большевизме виделось проявление варварских русских толп, не способных на установление просвещенной “февральской” демократии и извративших либеральные реформы до “буйства, дикости, разгула темных стихий”. Либералы критиковали в большевизме не элементы западничества, но их недостаток, не внешние формы, но народное содержание.
Обе эти позиции русской эмиграции продолжали спор двух традиционных лагерей, на которые делилась последние сто лет царской Империи правящая элита романо-германского образца. Это был спор в рамках одной и той же “колониальной администрации”, в равной степени антинародной и абстрагированной от евразийской идентичности Руси. Реакционеры считали, что евразийские массы надо держать в строгой узде, что они не поддаются “окультуриванию”, а либералы-западники верили, что при определенных условиях они все же могут быть выдрессированы по образцу европейских обществ.
Евразийцы, со своей стороны, предложили совершенно особую трактовку большевизма, вытекающую из совершенно инаковых предпосылок. Они полагали, что историческая рефлексия правящего класса при царизме вообще была неадекватной, ненациональной, а следовательно, она оказалась ошибочной, преступной, и в конце концов довела народную стихию до точки радикального бунта.
Евразийцы видели сущность большевизма в подъеме народного духа, в выражении донной Руси, загнанной в подполье еще с раскола и времен Петра. Они утверждали глубинно национальный характер Революции, как смутное, неосознанное, слепое, но отчаянное и радикальное стремление русских вернуться к временам, предшествующим “романо-германскому игу”. Перенос столицы в Москву интерпретировался ими в этом же ключе. Здесь они были согласны с либералами относительно национальной природы большевизма, но рассматривали этот фактор не отрицательно, а положительно, как наиболее ценный, созидательный и органичный компонент большевизма.
С другой стороны, евразийцы были традиционалистами, православными христианами, патриотами, ориентированными на национальную систему культурных ценностей. Поэтому марксистская терминология большевиков была им чужда. Здесь они были отчасти согласны с крайне правыми эмигрантскими кругами, считая, что западнический, проевропейский элемент в большевизме является его негативной стороной, препятствует органическому развитию большевистского движения в полноценную русскую, евразийскую реальность. Но в то же время вину за западнический (отрицательный) компонент в Революции евразийцы возлагали не на мифический “иудо-масонский” заговор, но на петербургскую модель государственности, которая была западнической во всех своих аспектах, и настолько повлияла в этом смысле на российское общество, что даже протест против “романо-германского ига” смог оформиться лишь в терминах, заимствованных из арсенала европейской мысли — конкретно из марксизма.
Трубецкой и его последователи, таким образом, отвергали позиции и реакционеров, и либералов, утверждая в эмиграции совершенно особое, необычное, уникальное мировоззренческое течение, захватившее в определенное время (20-е годы) лучшие умы.
К евразийскому понимаю Революции примыкали и слева и справа. Слева — крайние народники, часть левых эсеров и анархистов, которые в отличие от либерал-демократов весьма положительно оценивали народный, донный элемент большевизма. Справа — консервативные круги, следующие за славянофилами, Данилевским и Леонтьевым, которым романовский строй представлялся, в свою очередь, “либеральным компромиссом”. Почти такой же позиции в отношении революции как князь Николай Трубецкой придерживались и русские национал-большевики (Устрялов, Ключников и т. д.).
Конечно, сами большевики выражали свое понимание русской истории несколько иначе. Во всем у них доминировала узкомарксистская догматика, не способная охватить и адекватно осознать многомерные культурно-цивилизционные процессы, чуждая истории религий и геополитики. Но справедливости ради следует сказать, что и в большевизме (особенно на ранних его стадиях) существовала тенденция сближения марксизма с народными гетеродоксальными верованиями. В частности, ближайший соратник Ленина Бонч-Бруевич с благословения вождей РСДРП издавал специальную газету для русских сектантов и староверов крайних толков “Новая Заря”.
Евразийцы же понимали большевизм гораздо объемнее, в контексте многочисленных факторов русской истории, с учетом истории религии, социологии, этнологии, лингвистики и т. д. Не случайно некоторые недоброжелатели называли евразийцев “православными большевиками”. Конечно, это было некоторым преувеличением, против которого возражал и сам Трубецкой, но доля истины в этом все же была, если отказаться от заведомо негативного понимания самого термина “большевизм”.
Для реакционных политиков интернационализм, проповедуемый большевиками, был подтверждением антирусской, антинациональной сущности всего этого течения. Евразийцы же видели всю картину совершенно иначе. Они уловили в “пролетарском интернационализме” вождей русской революции не стремление “уничтожить нации”, но воссоздать в рамках СССР единый евразийский тип, мозаику “общеевразийского национализма”, о которой писал Трубецкой. В таком случае большевистский интернационализм, ограниченный пространством Советского Государства и относящийся в первую очередь к евразийским этносам был в глазах евразийцев длишь эвфемизмом, иным названием для “имперского национализма”, особой модели универсальной континентальной общины народов Востока, для “Человечества”, в том смысле, в каком понимал его Трубецкой, противопоставляя “Европе”.
Так как для евразийцев идеалом было не слепое копирование европейских “национализмом”, родившихся из общей романо-германской матрицы, но обращение к евразийской модели Московской Руси, общность которой было обеспечена в большей степени единством культурного и религиозного типа, нежели расовым и языковым родством, то они узнавали в практической национальной политике Советов знакомый и близкий им интеграционный принцип. И по этой причине им был также внятен призыв большевиков к глобальной деколонизации, к сбрасыванию народами Востока романо-германского ярма, планетарное национально-освободительное движение. Проведение такой политике точно соответствовало представлению самих евразийцев о планетарной освободительной миссии России.