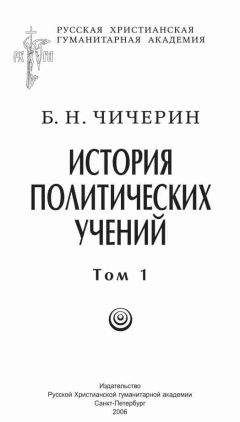Прилагая эти начала к своей деятельности, Иннокентий III считал себя вправе вступаться даже в чисто политические дела, например в споры князей между собою. Так, в войне между французским королем и английским он выступил посредником и велел враждующим сторонам заключить мир или по крайней мере перемирие. На это французский король и бароны отвечали, что он не имеет права вступаться в светские дела и вмешиваться в отношения господина к вассалу. Тогда Иннокентий сослался на принадлежащее ему право судить грехи: «Господь сказал в Евангелии: аще согрешит к тебе брат твой, иди и обличи его между тобою и тем единем… Аще ли не послушает, повеждь церкви аще же и церковь преслушает, буди тебе яко язычник и мытарь (Мф. 18: 15–17). Но король Англии готов доказать, что король Франции против него грешит, в обличении своем он действовал по евангельскому закону; наконец, так как ничто не помогло, он поведал церкви. Каким же образом мы, которые высшею властью призваны к управлению вселенской церковью, можем не слушать божественного повеления и не действовать по предписанному правилу… Ибо мы думаем судить не о лене, а о грехе (поп de feudo, sed de peccato). Над последним, без сомнения, нам принадлежит суд, который мы можем и должны исправлять в отношении к кому бы то ни было… Мы опираемся не на человеческое установление, а на божественный закон, ибо власть наша не от людей, а от Бога… Что в войне заключается грех, это также несомненно. Папе принадлежит право судить о всем, что касается до спасения или осуждения душ. Но не достойно ли вечного осуждения возбуждать раздоры, сражаться против верующих, разрушать монастыри, грабить церковные имущества, насиловать дев, посвященных Богу, попирать бедных и разорять богатых, проливать человеческую кровь и осквернять церкви? Если бы мы при этом молчали, нас имели бы право назвать немыми собаками, у нас могли бы требовать отчета в крови стольких тысяч людей. Разве Бог не сказал нам устами пророка: се поставих тя днесь над языки, даразрушиши и паки созиждеши? А мы сидели бы сложа руки, когда дело идет о предупреждении преступлений! Когда церковь и ее служители в опасности, неужели нам запрещено воздвигаться как стена, чтоб оградить их? Ни один человек, имеющий здравый смысл, не сомневается в том, что наша обязанность — обличать всякого христианина во всяком смертном грехе, и если он презирает увещание, принудить его церковным наказанием. Неужели одни цари от этого изъяты? Но в Писании сказано: вы будете судить великих, как и малых, невзирая на лица. Что же остается нам делать, когда ты не слушаешь церкви, как не поступать с тобою, яко с язычником и с мытарем? Если надобно выбирать, мы предпочитаем не угодить тебе, нежели оскорбить Бога»[99].
Таким образом, во имя нравственного закона церковная власть становилась судьею почти всех человеческих действий. По этой теории, гражданская область оставалась неприкосновенною, папа брал в свое ведение одни только духовные дела. Он судил не о лене, а о грехе. Но нравственный суд, по понятиям того времени, не ограничивался пределами совести, он имел и гражданские последствия. Несмотря на резкое разделение союзов, гражданского и церковного, нравственное начало, как высшее, оказывало свое влияние на светскую область, всякий раз как к гражданскому отношению примешивалось нравственное. Такое смешение лежит отчасти в самом существе человеческих действий, в которых нередко соединяются оба элемента. Но по понятиям Нового времени, везде, где проявляется юридическое начало, там дело принадлежит ведомству государства; по духу средних веков, напротив, везде, где есть нравственное действие, хотя и в смешении с другими элементами, там дело подлежит суду церкви. Причина этого различия заключается в том, что средневековая церковь занимала в обществе то место, которое в новое время, так же как и в древности, принадлежит государству. Вследствие такого влияния нравственного начала на юридическое церковное наказание, отлучение от церкви, получало гражданские последствия. Оно разрушало все связи, оно делало человека отверженником общества. Никто не смел входить в сношение с тем, кто извергался из церковного союза, на ком лежало церковное проклятие. Этим духовным оружием смирялись цари. Духовенство прилагало его всякий раз, как кто кто-либо осмеливался оказывать ему неповиновение. Впоследствии злоупотребления притупили силу этого оружия, но в XIII веке, в средоточии средневековой жизни, оно было почти всемогущим. Опираясь на такое признанное всеми широкое приложение нравственных начал, Иннокентий III мог говорить, что, в противоположность Ветхому Завету, Христос устроил власти так, что царство сделалось иерейским, а священство царственным[100]. Он мог для характеристики двух властей употреблять старинные сравнения с отношением души к телу или с двумя небесными светилами, из которых меньшее заимствует свой свет от большего.
Возражать против этого учения можно было только во имя свободы, отрицая у церкви всякую принудительную власть. Это и делали в то время еретики, вальдийцы, которые в XIII веке явились первыми провозвестниками протестантских начал. Они отвергали самую церковную иерархию и стояли за свободное служение всякого мирянина и за вольное толкование Св. Писания всеми христианами. Вместо вселенского союза, управляемого духовенством, церковь, по их учению, должна была превратиться в общину верующих. Но еретики в XIII веке истреблялись огнем и мечом. Сама светская власть считала себя обязанною употреблять принуждение против отступников от церковного единства, а через это она становилась орудием в руках церкви.
Теория нравственного закона давала, следовательно, папам самую твердую точку опоры. Но она не ограничилась этими пределами. Богословская наука того времени возвела нравственный закон в закон мировой. Великие учители XIII века построили на нем обширную философскую систему, которая дала папской власти новые оружия и служила источником для еще более высоких требований. Здесь мы вступаем в область схоластики.
3. Фома Аквинский и его школа
Философская мысль в средние века не могла иметь самостоятельного развития, господство нравственно-религиозного начала этого не позволяло. Все высшие вопросы, занимающие человеческий ум, принадлежали к области веры; независимое суждение не допускалось. Философия считалась служанкою религии. При всем том мысль не оставалась неподвижною. Перед нею лежала великая задача, и для разрешения ее она принуждена была прибегать к самому тяжелому труду и к самым утонченным изворотам. Поставленная в служебное отношение к религии, она старалась подчинить богословским началам всю область человеческого знания. Такова была цель схоластики, богословской науки средних веков. Исходя от основных положений церкви, схоласты строили философские системы, обнимавшие все мироздание. Но и здесь, как и везде, неизбежно являлась противоположность начал церковных и светских. Св. Писание и творения отцов церкви не содержат в себе руководства для всякого познания. Светская наука имеет свои собственные начала и свои пути, независимые от богословия. Схоластам приходилось искать этих начал самостоятельною деятельностью мысли. Но в средние века человеческая мысль, выходя из варварского периода, не имела еще довольно крепости, чтобы двигаться без внешней опоры и собственными силами выработать содержание и метод познания. Подчиненная авторитету в богословской сфере, она искала авторитетов и в философской области. Таковыми были для нее древние писатели, особенно Платон и Аристотель, учители нового мира. Сочинения их служили неисчерпаемым источником всякого рода мыслей и доводов. С другой стороны, схоласты не могли однако слепо подчиняться этим авторитетам. Языческие философы заключали в себе слишком много начал, противоречивших христианству. Надобно было согласить различные воззрения, сделать из них нечто цельное, логически связное. Это, конечно, не всегда удавалось. Схоластические учения часто носят на себе печать разнородного своего происхождения. Но мысль изощрялась в этих усилиях и доходила даже до излишней утонченности. Сквозь сухую, нередко безобразную форму, сквозь собрание разнородных понятий проглядывает самостоятельность суждения, пытающегося свести разнородное к единству. Одна система возникала за другою; один и тот же древний писатель, принятый за авторитет, служил материалом для совершенно различных воззрений, ибо каждый черпал из него что хотел и толковал его по-своему. В первую эпоху развития схоластики, с конца XI века и в XII, главным философским авторитетом является Платон, во вторую эпоху, в XIII столетии, Аристотель, с сочинениями которого познакомили Европу арабские переводчики и комментаторы.
В первый период схоластика представляет ту же картину, какую мы видели в политической области. Как там кипит борьба между светскою властью и духовною, так здесь происходят ожесточенные прения между номиналистами и реалистами. Спор касался, по-видимому, вопроса второстепенного: значения так называемых universalia, или общих названий, родовых и видовых. Реалисты утверждали, что виды и роды суть действительно существующие общие субстанции, которые проявляются в отдельных вещах; номиналисты, напротив, считали действительно существующими только отдельные предметы, в видовых же и родовых названиях видели одни термины, которые человеческий ум употребляет для более удобного обозрения вещей. Но в этом вопросе затрагивалась сама сущность средневековых воззрений, именно: отношение мыслимой, духовной субстанции к материальной. Решение его в ту или другую сторону имело влияние на самую разработку религиозных догматов, ибо отсюда черпались те философские понятия, которые служили связью между знанием и верою. Таким образом, восходя от отдельных предметов к общей, родовой субстанции и более и более обобщая последнюю, реалисты доходили наконец до самого общего понятия, обнимающего собою все остальные, до понятия о бытии как первоначальном источнике всего сущего. Это и есть Бог. Схоласты первого периода определяли Бога как верховное бытие. «Что есть Бог?» — говорит св. Бернард в приведенной выше книге «О размышлении». «Тот, кто есть. Скажи все остальное, и ты ничего не прибавишь; если же не скажешь, то ничего не убавишь, ибо все содержится в этом слове „есть“. Что есть Бог? Тот, без кого нет ничего. Что есть Бог? Начало всего. Что есть Бог? Тот, от кого, через кого и в ком все существует. Он един, не так как другие вещи и существа, но по преимуществу единый. Он образует Троицу, но у трех лиц одна субстанция, одна природа»[101]. Доказательство бытия Бога схоласты первого периода черпали из самого понятия о верховном бытии, которое не может не быть. Это так называемый онтологический довод, развитый Ансельмом Кентерберийским, основателем этого направления. Но понятно, что номинализм не допускал подобных доказательств, ибо он не признавал общей субстанции действительно существующею. Поэтому церковь вооружилась против номиналистов, усматривая в их учении ересь. С другой стороны, однако, и реализм заключал в себе опасность. Видя в отдельных предметах проявление общей субстанции, он легко мог впасть в пантеизм. Бытие существует во всем, это общая сущность всех вещей. Исходя от этих понятий, можно было и Бога понимать как общую субстанцию, присущую миру, а не отдельную от него. Последовательное развитие реализма само собою вело к такому смешению Творца с творением. Разрабатывая вопрос об общих названиях и принимая отчасти в соображение доводы номиналистов, позднейшие реалисты пришли к убеждению, что роды и виды, как общие субстанции, существуют не отдельно от вещей, а в самих вещах (поп ante rem, sed in re). Смелые умы, ухватившись за это начало, пошли далее и развили из нее системы чистого пантеизма. Таковы были ереси Амальрика Венского и Давида Динантского.