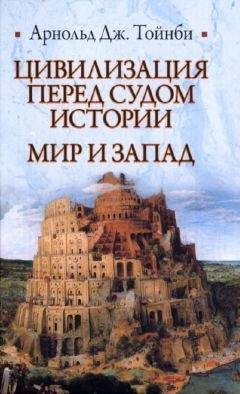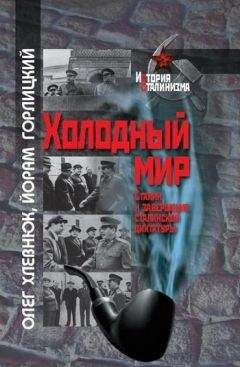вроде бара для одиночек: «Кучка незнакомцев, которые случайно встречаются, идут домой, занимаются сексом, больше не видятся, не помнят, как друг друга зовут, возвращаются в бар и снова с кем-то знакомятся. То есть это мир, построенный на разобщенности» [19]. Иными словами, мир, богатый на опыт, но лишенный прочных связей и устойчивых идентичностей.
Неудивительно, что одной из реакций на вызванную глобализацией неопределенность стало возвращение барьеров, вожделенных границ между людьми и государствами. По выражению Джовитта, «барьеры – это католический брак. Женившись, вы уже не можете развестись» [20]. Именно этот переход от разомкнутого мира 1990-х к изолированному, возникающему сегодня, меняет перформативную роль демократических режимов. Демократия как режим, поддерживающий эмансипацию меньшинств (гей-парады, женские марши, политика позитивной дискриминации), вытеснена политическим режимом, потакающим предрассудкам большинства. Движущей силой этого перехода служит политический шок, вызванный наплывом беженцев и мигрантов. Исследование лондонского аналитического центра Demos, проведенное задолго до Брекзита и победы Дональда Трампа на президентских выборах, показало, что ключевая характеристика сторонников правых популистских партий состоит в неприятии либеральной миграционной политики [21]. Неприязнь к либерализму объясняется не экономическим кризисом или растущим социальным неравенством, а в первую очередь неспособностью либерализма ответить на вызов миграции. Неумение и нежелание либеральных элит обсуждать миграцию и справляться с ее последствиями, их уверенность в том, что существующая политика выгодна всем, для многих уподобляет либерализм лицемерию. Бунт против лицемерия либеральных элит в корне меняет политический ландшафт Европы.
Подобно свободному потоку идей, уничтожившему коммунизм (а с ним и холодную войну), движение людей через границы Европейского союза и Соединенных Штатов похоронило мировой порядок, сложившийся после холодной войны. Миграционный кризис обнажил несостоятельность существующей парадигмы, в особенности неспособность институтов и правил холодной войны справиться с проблемами современного мира. Конвенция о статусе беженцев 1951 года – один из самых поразительных примеров этого провала.
Конвенция о статусе беженцев – это многосторонний договор ООН, определяющий понятие беженца и права людей, которым предоставлено убежище, а также обязанности принимающих государств. Первая статья конвенции, дополненная протоколом от 1967 года, определяет беженца как лицо, которое
…в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений [22].
Очевидно, что при составлении конвенции подразумевалась в первую очередь Европа, беженцы Второй мировой и те, кто бежал с коммунистического Востока в начале холодной войны. Конвенция не была рассчитана на огромные массы людей, которые хлынут на Запад из-за его пределов. В конце концов, в 1951 году мир все еще состоял преимущественно из европейских империй.
Европейский миграционный кризис и неспособность Конвенции о статусе беженцев эффективно ему противостоять служат поворотным моментом в переосмыслении современного мира. То, что еще вчера считалось миром после холодной войны, сегодня все больше походит на вторую волну деколонизации. Но если колонизаторы первой волны возвращались домой, то в ходе второй, сегодняшней, «колонизированные» мигрируют в бывшие метрополии. Полвека тому назад колонизированные народы боролись за обещанное Европой самоуправление в надежде на освобождение; сейчас они требуют защиты прав человека в расчете отстоять возможность попасть в Европу.
В практическом и правовом отношении нет большого смысла разделять понятия беженца и мигранта, тем не менее это разные вещи. Мигранты покидают дома в надежде на лучшее будущее, тогда как беженцы бегут из своих стран в надежде спасти свою жизнь. Но чтобы передать масштаб угрозы, которую в сознании европейцев несет массовый наплыв людей, – а мое исследование сосредоточено именно на этом, – я буду использовать термины «мигранты», «миграционный кризис» и «кризис беженцев» как взаимозаменяемые.
Несмотря на различия в политических контекстах, наша ситуация чем-то напоминает страсти, кипевшие в 1960-х. Встревоженное большинство опасается, что приезжие захватывают их страны и угрожают их образу жизни, и усматривает причину кризиса в сговоре между космополитически настроенными элитами и иммигрантами с племенным сознанием. В основе подобных опасений лежат не ожидания угнетенных, а фрустрация властей предержащих. Это не популизм «народа», плененного романтическими фантазиями националистов, как это было век и более назад, но популизм, подпитываемый демографическими прогнозами об ослаблении роли Европы в мире и ожиданием массового переселения народов на континент. К такого рода популизму история и примеры из прошлого нас не готовили.
Голосующие за нынешних ультраправых в Европе во многом разделяют настроения французских pied noirs [23], которые вынуждены были покинуть Алжир во время войны за независимость. И те, и другие радикализированы и чувствуют себя обманутыми. Противоречивый и горячо обсуждаемый роман Мишеля Уэльбека «Покорность» точно описывает взрывоопасный коктейль ностальгии и фатализма, подогреваемый новыми популистами и разлитый по охваченной страхом Европе [24]. Герою романа Франсуа немного за сорок, он преподает в Сорбонне, живет один, ужинает готовой едой из супермаркета, периодически спит со своими студентками. У него нет друзей (и, стало быть, врагов) и привязанностей и нет интересов за пределами французской литературы XIX века. Франсуа изучает порно в сети, посещает проституток и наблюдает, как ядовитая смесь конформизма и политкорректности приводит к власти во Франции исламистов, превращая его страну в просвещенную Саудовскую Аравию. Норвежский писатель Карл Уве Кнаусгор заметил по поводу этого романа, что «если смотреть отвлеченно, ясно, что мы имеем дело с одиночеством, отсутствием любви и смысла… неспособностью испытывать эмоции или выстроить близкие отношения с другими» [25].
Но для Уэльбека одиночество Франсуа, конечно, не более чем литературный прием. «Покорность» – анатомия упадка и капитуляции секуляризированной Европы перед лицом восходящего ислама. Это роман о Европе, лишенной воли к сопротивлению, способных за нее побороться лидеров и пространства для отступления. Любовница Франсуа, двадцатидвухлетняя Мириам, уезжает с родителями в Израиль, но ему самому ехать некуда. В истерзанном воображении европейских масс иммиграция – это форма нашествия, когда чужаки наступают со всех сторон, а местным некуда бежать. В этом смысле приверженцы ультраправых взглядов кажутся себе очень трагическими героями, которым, в отличие от франкоалжирцев, некуда возвращаться.
Миграция мнений и голосов
Десять лет назад венгерский философ и бывший диссидент Гашпар Миклош Тамаш заметил, что Просвещение, к которому восходит идея Европейского союза, требует универсального гражданства [26]. Но для универсального гражданства необходимо соблюдение одного из двух условий: либо люди пользуются