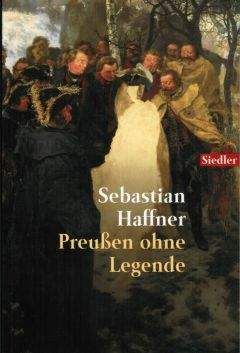Некоторые косвенные указания говорят за то, что эта версия Костенко более правильно объясняет поведение Авдеева и Каптеловича, чем догадка Савинкова: наличность среди распропагандированных матросов крейсера трений между сторонниками террора-цареубийства и сторонниками массового восстания видна и из воспоминаний Савинкова. Если так, то последняя карта Азефа, от которой зависело его спасение, была бита сторонниками того самого массового восстания, в которое он никогда не верил и против которого он всегда боролся.
Какое бы из этих двух объяснений мотивов поведения Авдеева и Каптеловича ни было верно, во всяком случае, ясно одно: не состоялось это покушение совсем не потому, чтобы его не хотел Азеф. Последний сделал все, что было в его силах, для доведения этого предприятия до успешного конца. Герасимов ничего не знал о том, что должно было произойти на «Рюрике». Прощальное письмо Авдеева, подписанное его настоящим именем, вместе с приложенной к нему фотографической карточкой, — письмо, которое головой выдавало Авдеева, — осталось на хранении у Азефа вплоть до момента его разоблачения: уходя в ночь на 6-ое января 1909 г. со своей парижской квартиры, Азеф сознательно положил его на видном месте на своем письменном столе, — как документ, который должен был доказать его обвинителям, что он не был предателем, если мог предать и не предал этого дела… На самом деле, конечно, значение этого документа было иное: он свидетельствовал, что в данной партии его игры для Азефа было более выгодным предать не революционеров…
Позднее, в 1912 г., встретившись с Бурцевым во Франкфурте на Майне, Азеф не без упрека в голосе говорил:
«Если бы вы, Владимир Львович, меня тогда не разоблачили, — я убил бы царя».
Вся биография Азефа, — как мы ее теперь знаем, — заставляет считать, что на этот раз он говорил Бурцеву правду: он действительно организовал бы цареубийство. Верить в это приходится не потому, что он был особенно инициативным и изобретательным организатором. Наоборот: творческой инициативы у него не было, и за все годы своего в боевую работу он ничего не внес. Но волею судеб он сделался центром, к которому тянулись нити коллективной инициативы всех, чья мысль работала над вопросами террора. Огромное большинство этих мыслей Азеф губил, — продавал их полиции. Но в те моменты, когда это становилось ему выгодным, он умел из общей массы талантливых и оригинальных планов выбирать практически целесообразные, — как хороший коммерсант из массы часто гениальных изобретений и открытий выбирает только те, которые в данный момент могут быть рентабельными. И этот практически целесообразный план он сумел бы провести в исполнение, — потому что это ему было выгодно.
Конечно, поскольку речь идет об Азефе, организованное им таким образом убийство царя не было бы актом террористической борьбы, — в том смысле, который вкладывается в это слово нашей русской литературой. С точки зрения субъективных мотивов его поведения это было бы обычным убийством с заранее обдуманным намерением и притом в целях извлечения корыстной выгоды.
Но для историка эти мотивы не представляли бы большого интереса. Историку пришлось бы считаться с фактом: династия Романовых закончилась бы во всяком случае не на Николае II…
Кампания против Азефа, начатая Бурцевым, тем временем развертывалась своим чередом. Шаг за шагом Бурцев накоплял улики и уже перестал делать секрет из своих обвинений. Теперь он не был одинок. Систематические неудачи Боевой Организации во всем главном, что только она ни задумывала, начали наводить на печальные размышления многих и из числа партийных деятелей. Становилось бесспорным, что предатель в самом центре партии имеется, и методом исключения все, вставшие на путь этих рассуждений, приходили к подозрениям против Азефа. На партийное положение Азефа все эти подозрения до поры до времени никакого влияния не оказывали. Руководители партии упорно отказывались верить всем выдвигаемым против него обвинениям, квалифицируя их как «легкомысленную обывательскую болтовню». Азеф продолжал руководить боевой работой партии и входить в состав Центрального Комитета. В качестве члена последнего в августе 1908 г. он присутствовал на партийной конференции в Лондоне…
Такое положение заставило Бурцева перейти к более решительным действиям. Узнав об участии Азефа на Лондонской конференции, он отправил одному из членов этой конференции, своему старому другу А. Л. Теплову, письмо с прямым обвинением Азефа в измене. Это письмо стало известным Центральному Комитету, который решил, наконец, выйти из своего пассивного состояния и привлечь Бурцева к третейскому суду. Речь шла не о расследовании по существу тех обвинений, которые выдвигал Бурцев против Азефа, а именно о суде над Бурцевым за то, что он «клеветал» на Азефа. И, тем не менее, решение Центрального Комитета натолкнулось на сильное сопротивление среди видных партийных деятелей, — особенно из числа имевших более или менее близкое отношение к Боевой Организации.
Последние во главе с Савинковым были самым решительным образом против суда, считая уже самую возможность такого суда оскорблением для чести Боевой Организации.
Считая Бурцева искренним человеком, впавшим в глубокое заблуждение только потому, что он не знал действительной биографии Азефа, Савинков в доверительных беседах рассказал Бурцеву во всех подробностях о роли Азефа в жизни Боевой Организации. В этих рассказах для Бурцева было много нового. Из них он, в частности, впервые узнал о плане покушения на крейсере «Рюрике»: разговоры его с Савинковым происходили в сентябре, — как раз в те дни, когда «Рюрик» подходил к Кронштадту и готовился к царскому параду, и когда посвященные в это дело руководители Боевой Организации со дня на день ожидали получения телеграммы о «роковом» для жизни царя инциденте во время этого парада. Легко себе представить, какие настроения должны были вызвать в Бурцеве эти рассказы. У него была твердая уверенность в правильности выдвинутого им обвинения, — но точного знания, документально установленных фактов он не имел. Прав или не прав он был, — но общая обстановка в свете узнанного им от Савинкова, становилась еще более жуткой, еще более кошмарной.
Именно в эти дни он сделал свою попытку вызвать Лопухина на откровенный разговор. Попытка эта, как рассказано выше, удалась:
«Никакого Раскина я не знаю, но инженера Евно Азефа я видел несколько раз», — взволнованно бросил бывший директор Департамента Полиции, сам разрешивший Азефу вступить в Боевую Организацию, но не имевший до этого разговора и отдаленного представления о том, как далеко ушел его бывший подчиненный по тому пути, для вступления на который Лопухин его благословил.
Этот разговор дал Бурцеву то, чего ему раньше не хватало, — дал знание правильности выдвигаемого им обвинения. Пусть Азеф убил Плеве, вел. кн. Сергея и многих других; пусть он не сегодня-завтра убьет и самого царя. Дело от этого не меняется. Какими мотивами он руководствуется при этом — неизвестно, — но точно известно, что он состоял и состоит на службе у полиции, и если по тем или иным соображениям он сегодня не выдает одних из террористов, то совершенно несомненно, что он вчера и позавчера выдавал многих других, — и что он будет так же поступать завтра. Мириться с этим положением нельзя, Если ближайшие друзья Азефа не хотят открыть глаза, если они остаются глухи ко всем указаниям, — тогда остается только одно: высказать свои обвинения публично, в печати.
Под влиянием этих настроений немедленно же после свидания с Лопухиным Бурцев составил открытое обращение ко всем членам партии социалистов-революционеров и сдал его в типографию для набора. В этом обращении он повторял свои обвинения против Азефа и объяснял, почему он должен прибегнуть к помощи печатного слова.
В корректурных гранках это обращение было послано в Центральный Комитет социалистов-революционеров. Только после этого принятое больше чем за месяц перед тем решение о созыве третейского суда было приведено в исполнение. В состав суда решено было пригласить трех наиболее старых и популярных в революционной среде революционеров: В. Н. Фигнер, Г. А. Лопатина и П. А. Кропоткина.
«Надо принять меры и усмирить Бурцева, который направо и налево распространяет слух, что Азеф провокатор», — говорил член Центрального Комитет» Натансон, приглашая в состав суда В. Н. Фигнер.
Они все еще были уверены, что речь идет именно о том, чтобы «усмирить» Бурцева!
Суд заседал в Париже, — главным образом на квартире Савинкова, в маленькой скромной комнате, почти лишенной обстановки. Внешняя обстановка была самая обыденная, без намека на торжественность. Члены суда сидели вперемежку с «обвиняемым» и представителями «обвинения», официальным председателем был Г. А. Лопатин, но фактически допросы вел главным образом В. М. Чернов, — который вместе с М. А. Натансоном и Б. В. Савинковым представлял обвинение в качестве официальных уполномоченных Центрального Комитета. Настроение всех участников, — достаточно приподнятое и в самом начале, — по мере хода следствия, становилось все более и более напряженным.