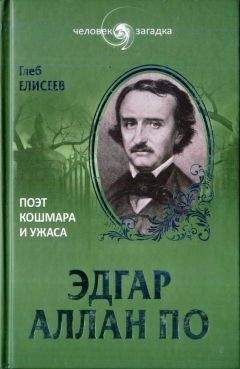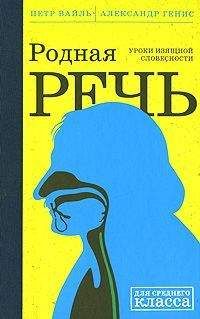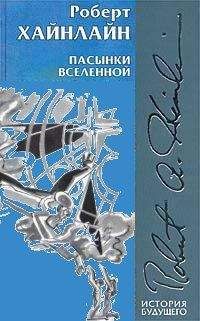Но в любом случае, Огюст Дюпен был первым персонажем-следователем, и именно он стал прообразом всех канонических детективов, полагающихся в расследовании не на кулаки, а на логику и здравый смысл. Он это даже специально подчеркивает в беседе с героем-рассказчиком: «Плохо же вы себе представляете индуктивный метод мышления — умозаключение от факта к его причине. Выражаясь языком спортсменов, я бил по мячу без промаха. Я шел по верному следу. В цепочке моих рассуждений не было ни одного порочного звена, я проследил ее всю до конечной точки».
Расследуя зверские убийства на улице Морг, Дюпен постоянно и неопровержимо логичен, объясняя любые, казалось бы самые запутанные и противоречивые, свидетельства: «Вы не заметили самого характерного. А следовало бы заметить! Свидетели, как вы правильно указали, все одного мнения относительно хриплого голоса; тут полное единодушие. Что же до визгливого голоса, то удивительно не то, что мнения разошлись, а что итальянец, англичанин, испанец, голландец и француз — все характеризуют его как голос иностранца. Никто в интонациях визгливого голоса не признал речи соотечественника. При этом каждый отсылает нас не к нации, язык которой ему знаком, а как раз наоборот. Французу слышится речь испанца: „Не поймешь, что говорил, а только, скорее всего, язык испанский“. Для голландца это был француз; впрочем, как записано в протоколе, „свидетель по-французски не говорит, допрашивается через переводчика“. Для англичанина это звучит как речь немца; кстати, он „по-немецки не разумеет“. Испанец „уверен“, что это англичанин, причем сам он „по-английски не знает ни слова“ и судит только по интонации, — „английский для него чужой язык“. Итальянцу мерещится русская речь — правда, „с русскими говорить ему не приходилось“. Мало того, второй француз, в отличие от первого, „уверен, что говорил итальянец“; не владея этим языком, он, как и испанец, ссылается „на интонацию“. Поистине, странно должна была звучать речь, вызвавшая подобные суждения, речь, в звуках которой ни один из представителей пяти крупнейших европейских стран не узнал ничего знакомого, родного! Вы скажете, что то мог быть азиат или африканец. Правда, выходцы из Азии или Африки нечасто встречаются в Париже, но, даже не отрицая такой возможности, я хочу обратить ваше внимание на три обстоятельства. Одному из свидетелей голос неизвестного показался „скорее резким, чем визгливым“. Двое других характеризуют его речь как торопливую и неровную. И никому не удалось разобрать ни одного членораздельного слова или хотя бы отчетливого звука».
И в итоге Дюпен раскрывает дело, в котором виновником оказывается самый невероятный преступник: «Если присоединить к этому картину хаотического беспорядка в спальне, вам останется только сопоставить неимоверную прыть, сверхчеловеческую силу, лютую кровожадность и чудовищную жестокость, превосходящую всякое понимание, с голосом и интонациями, которые кажутся чуждыми представителям самых различных национальностей, а также с речью, лишенной всякой членораздельности. Какой же напрашивается вывод? Какой образ возникает перед вами?»
Думаю, все прекрасно помнят, что убийцей оказался сбежавший от хозяина орангутан, а Огюст Дюпен записал первую невероятную победу в историю своих детективных подвигов.
«Убийство на улице Морг» поразительно еще и тем, что в нем уже заложен весь набор характерных ходов, к которым по-прежнему прибегают любые создатели детективов, — от обвинения невиновного в преступлении до финального посрамления полиции, которая изначально пошла по ложному следу. И если, как уже говорилось, решающий вклад Эдгара Аллана По в становление научной фантастики или хоррора иногда подвергают сомнению, то с его приоритетом в области детективной литературы лучше не спорить — все самое характерное и эталонное, все то, что делает литературный детектив — детективом, заложил в него именно автор «Убийства на улице Морг».
«Убийство на улице Морг». Иллюстрация А. Рэкхема
В 1842 году Эдгар По достаточно близко сошелся с Грэхемом, бывал на званых обедах в его доме, общался и с другими филадельфийскими литераторами — уже упомянутым Томасом Данном Инглишем, Робертом Салли и Томасом Майн Ридом. Однако близкими друзьями поэта сумели стать лишь очень экстравагантные жители города на реке Делавэр. Это были Фредерик Уильям Томас и Генри Бек Хирст, а также Джордж Липпард и художник-иллюстратор Джон Сартейн. Из этой публики самым удивительным персонажем был Липпард, которого Герви Аллен описал так: «Липпард имел обыкновение ночевать в заброшенном доме на площади Франклина, около сотни пустующих комнат которого были открыты для всякого рода самочинных постояльцев, не желавших отягощать себя расходами на жилье. Липпард почивал, подложив под голову саквояж, и видел во сне сплошные кошмары. Место это он прозвал „монашеской обителью“ и сочинил о нем сумасшедший „готический“ роман, где было все — ухмыляющиеся черепа, скитающиеся по темным коридорам зловещие фигуры в капюшонах, таинственные тени, скользящие по залитому лунным светом полу. В других своих книгах и пьесах он бичевал ханжество филадельфийских обывателей, разоблачая скрывавшиеся за ним безнравственность и порочность. Книги эти вызывали бури протеста в местном обществе, а представление одной из пьес было прервано разъяренной и негодующей толпой во главе с мэром города. Через Хирста Липпард, видимо, познакомился с По. Все трое были в известном смысле братьями по духу».
Однако самым близким другом поэта, вдохновительницей и музой оставалась его жена. Не менее прочной опорой в тяжелой жизни Эдгара По была и его теща. Вирджиния и Мария спокойно терпели запои поэта, выхаживали его во время приступов пьянства, терпеливо переносили очередные периоды безработицы и безденежья.
Впрочем, в годы работы поэта на Грэхема семья По переживала краткий период благоденствия. Писатель даже сумел купить в дом на Коутс-стрит кровать с пологом, фарфоровый сервиз, пианино и арфу, на которой любила играть Вирджиния. Герви Аллен так изобразил картину счастливых дней семьи По в Филадельфии: «Вечерами она пела ему, сидя у камина, а миссис Клемм занималась рукоделием; иногда он читал им глуховатым голосом, способным потревожить даже призраков, свои стихи или какой-нибудь жуткий рассказ, держа в руках испещренную красивым и четким почерком рукопись, свернутую в свиток, точно древний манускрипт (он имел привычку писать на листках нотной бумаги, склеенных краями в длинную ленту)».
А коварная и злокозненная судьба словно бы наблюдала за этим временным семейным счастьем, готовясь нанести самый неожиданный и подлый удар поэту…
Глава 5
ГОДЫ БЕСПЛОДНЫХ НАДЕЖД
Катастрофа в семье По разразилась в конце января 1842 года. Вечером Вирджиния играла па арфе, чтобы развлечь гостей. Вдруг она закашлялась, и у нее из горла хлынула кровь. Кровотечение было настолько сильным, что несчастная молодая женщина упала в обморок. Эдгар По подхватил жену на руки и отнес в ее комнату. Срочно вызванный врач Джон К. Митчелл диагностировал, что Вирджинию настиг фамильный недуг семьи По — туберкулез, причем уже в очень опасной фазе.
Удар для поэта был слишком сильным. В самом прямом смысле — у него едва не случился сердечный приступ. Затем По принялся пить и в пьяном состоянии бесцельно бродить по улицам. Всего лишь одна угроза потери Вирджинии смогла нарушить хрупкое равновесие между отточенным и холодным разумом По и скрытым безумием, угнездившимся в его подсознании. Несколько последующих лет душа поэта будет постоянно колебаться между обманчивой надеждой и беспросветным отчаянием, разрываясь между этими крайними чувствами. Эти ощущения даже вызвали к жизни известнейший рассказ По «Колодец и маятник».
Переживания человека, оказавшегося в лапах инквизиции и с трудом избегающего гибели, сопровождаются в новелле описанием эмоционального перехода от отчаяния к надежде и вновь к отчаянию. А из ее финала видно, что в глубине души По понимал — Вирджиния, скорее всего, обречена, и спасти ее, так же как и героя «Колодца и маятника», сможет только чудо. Ведь своими силами главный персонаж истории сумел лишь оказаться на краю смерти: «Двукратное мое спасенье подстрекнуло инквизиторскую месть, игра в прятки с Костлявой шла к концу. Камера была квадратная. Сейчас я увидел, что два железных угла стали острыми, а два других, следственно, тупыми… Камера тотчас приняла форму ромба… Я упирался, но смыкающиеся стены неодолимо подталкивали меня. И вот уже на твердом полу темницы не осталось ни дюйма для моего обожженного, корчащегося тела. Я не сопротивлялся более, но муки души вылились в громком, долгом, отчаянном крике. Вот я уже закачался на самом краю — я отвел глаза…