Работа писателя над синтаксисом, как и всякая другая стилистическая работа, может сделаться чересчур изощренной. Опасность эту вполне учитывает и Федин. Боязнь стать гурманом никак, однако, не освобождает художника слова от работы этого рода. Горький, всегда отрицательно относившийся к «щегольству» фразой, проявляющемуся в «погоне за небывалым построением» ее, в то же время считает необходимым вести борьбу за синтаксическую организованность произведения и прежде всего за «непрерывность течения речи» — неоспоримое и «большое достоинство писателя». В другом случае Горький дает синтетическую формулу этой работы писателя, добивающегося «монументального построения простых, прозрачно ясных и в то же время несокрушимо-крепко спаянных слов».
Фадеев особенно настаивал на гибкости поэтического синтаксиса, разнообразии его конструкций. «Построить в произведении фразу, в которой есть несколько придаточных предложений, не так трудно. Труднее не повторяться в построении последующих фраз. Одна такая фраза, другая, третья — и, сам того не заметив, сползешь к недопустимому однообразию: начинаешь своего читателя как на качелях качать. А между тем фраза должна иметь мускулатуру... Для того чтобы развить эту мускулатуру, художник должен постоянно заниматься своеобразной «гимнастикой», упражняясь в искусстве разнообразного построения фразы».
Работа писателя над синтаксисом всегда обусловливается его эстетическими воззрениями на задачи словесного искусства. Любители «плавной» повествовательной речи не раз испытывали неудовлетворенность чуждой какой-либо плавности и часто угловатой манерой Л. Толстого. Чехов резко критиковал этот пуристический подход, указывая в одной своей беседе, что, хотя у Л. Толстого «громадные периоды, предложения нагромождены одно на другое», не следует думать, «что это случайно, что это недостаток. Это искусство, и оно дается после труда. Эти периоды производят впечатление силы».
«Толстой... — указывает Л. Мышковская, — вовсе не заботился о синтаксическом улучшении фразы. Наоборот, часто фраза после правки становится гораздо хуже, чем прежде, неудобочитаемее, в ней прибавляются бесконечные «что-то», «который», «что»... и т. д., рядом стоящие. Но это обстоятельство, по-видимому, мало смущает Толстого... Грузность толстовского синтаксиса (излишние, отягчающие местоимения, которые он не находит нужным удалять при правках, а, наоборот, порой прибавляет) находится в несомненной зависимости от общих взглядов его и требований, которые он предъявляет к искусству: он, например, одобряет иную направленность языка. «Я люблю то, что называется неправильностью, что есть характерность», — пишет он. Как и в языке, так и синтаксисе он предпочитает такие обороты, которые, несмотря на свою тяжеловесность, убедительны и доказательны, — развернутая фраза со множеством придаточных и местоимений во многих случаях ему кажется убедительнее и уместнее, чем «презренные» округления слога.
Совершенно не случайно, — продолжает исследовательница, — что фраза Толстого в синтаксическом отношении громоздка, как бы не отделана, что в ней вовсе нет легкости, гладкости и изящества тургеневской фразы, что она часто даже отнюдь не литературна со своим обилием «что», «так что», «который» и т. д., раздражающим требовательный слух». «Утонченность и сила искусства почти всегда диаметрально противоположны», — записывает Толстой. Ему же «нужна именно сила, сила и значительность, которые должны как колокол звучать и раздаваться в слове, в фразе. Построение ее должно помогать этому. Синтаксис толстовской фразы эту функцию, при соответственном словаре, огрубленном, суровом и простом, именно и выполняет. Его развернутая фраза с огромным количеством повторений, перечислений и придаточных, как в ораторской речи, передает всю силу дыхания и голоса. В ее большом и свободном развороте именно и слышны та значительность и высота содержания, которые более всего важны для Толстого»[97].
Особое место в работе писателя занимает создание языка лиц, действующих в его произведении. Здесь его собственная речь прикрепляется к персонажу и обусловливается характером и жизненным положением последнего. В отличие от речи самого автора, язык его персонажей может быть неправильным и даже искаженным, если только это характеризует его носителя. В речи персонажа может быть широко распространена иноязычная стихия (см., например, украинские слова и выражения в русском языке действующих лиц «Железного потока» Серафимовича).
Разумеется, литература не сразу реализовала это художественное задание. Так, авторы классицистической трагедии избегали дифференциации речи, придавая языку героини и наперсницы, героя и вестника черты единообразия, сглаживая характерность речи в угоду требованиям аристократического вкуса. Однако в средних и низших жанрах классицизма эта дифференциация речи персонажей практиковалась достаточно широко: припомним, например, работу Мольера над своими «характерными» персонажами. Индивидуализации речи недостает и Шиллеру, идущему в некоторых отношениях гораздо дальше французских классицистов (см., например, его «Вильгельма Телля»). Романтизм как бы закрепляет двойственность подхода своих предшественников, с одной стороны усердно разрабатывая специфику «низкой» и характерной речи, а с другой — придавая своим «героям» чрезвычайно эмфатическую и условную манеру выражаться. Таков, например, Байрон, стремившийся к тому, «чтобы каждое действующее лицо» его мистерии «Каин» «говорило соответствующим ему языком». Однако и ему такая индивидуализация далеко не всегда удавалась: как указал Пушкин, «создав в своем воображении какой-нибудь характер, писатель старается наложить отпечаток этого характера на все, что заставляет его говорить, даже по поводу вещей совершенно посторонних...» У рядовых романтиков эта унификация речи была еще заметнее: так, например, в кавказских и светских повестях Марлинского, как это отмечал еще Белинский, «вы никак не разгадаете, кто говорит...».
Только реализм сделал принцип языковой характеристики обязательным для всех действующих лиц, от главных и до самых незначительных. Провозвестником реализма был Шекспир, который неизменно заставлял героя говорить языком, соответствующим его характеру. Именно с этих позиций Бальзак критикует единообразную манеру языка Купера, замечая, что заставлять литературный персонаж говорить всегда одно и то же — это бессилие. Большое внимание этому вопросу уделяет и Стендаль, стремящийся «сделать фразу г-жи Левен более женственной», отмечающий, что «у г-жи Гранде стиль должен быть всегда напыщенный, даже когда она говорит сама с собой».
Писателю-реалисту предстоит отразить в речи персонажа его национальные, классовые и сословные особенности, профессию, мировоззрение и характер. При этом языковые средства не статичны, они должны развертываться во времени, как бы раскрывая в этом плане своеобразие жизненного поведения данного персонажа. Когда французский учитель Бопре говорит ключнице: «Мадам, же ву при, водкю» («Капитанская дочка»), то в этой краткой фразе ярко раскрываются черты шалопая, призванного воспитывать в России дворянских недорослей.
Романтически настроенная Жорж Санд спрашивает себя, каким языком должны разговаривать ее крестьяне. «Если я заставлю деревенского жителя говорить таким языком, каким он обыкновенно говорит, необходимо будет переводить его речи для цивилизованного читателя. А если я заставлю его говорить так, как мы говорим, я создам несообразное существо, в котором придется предположить ряд идей, чуждых ему». Реалистические писатели не знают этих сомнений, они твердо убеждены, что герои должны говорить языком, свойственным их социальному положению. Однако осуществление этих ответственных задач требует от писателя настойчивого труда.
Лесков говорил своему биографу: «Чтобы мыслить «образно» и писать так, надо, чтобы герои писателя говорили каждый своим языком, свойственным их положению. Если же эти герои говорят не свойственным их положению языком, то черт их знает — кто они сами и какое их социальное положение. Постановка голоса у писателя заключается в уменьи овладеть голосом и языком своего героя и не сбиваться с альтов на басы. В себе я старался развивать это уменье и достиг, кажется, того, что мои священники говорят по-духовному, нигилисты — по-нигилистически, мужики — по-мужицки, выскочки из них и скоморохи — с выкрутасами и т. д... Человек живет словами, и надо знать, в какие моменты психологической жизни у кого из нас какие найдутся слова... Вот этот народный вульгарный и вычурный язык... сочинен не мною, а подслушан у мужика, у полуинтеллигента, у краснобаев, у юродивых и святош... я собирал его много лет по словечкам, по пословицам и отдельным выражениям, схваченным на лету в толпе, на барках, в рекрутских присутствиях и монастырях».
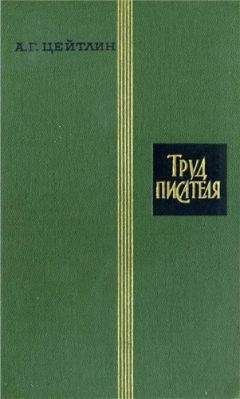
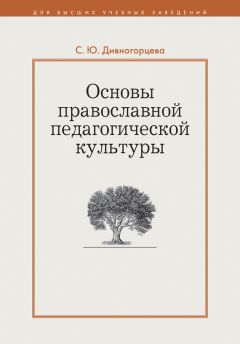
![Вадим Георгиенко - Навстречу людям. Шаг за шагом[практические механизмы участия общественности в процессах принятия решений на местном уровне]](https://cdn.my-library.info/books/167548/167548.jpg)


