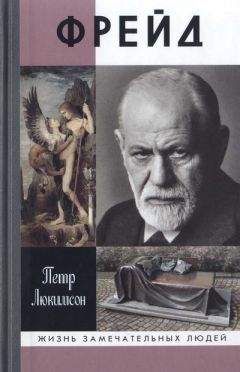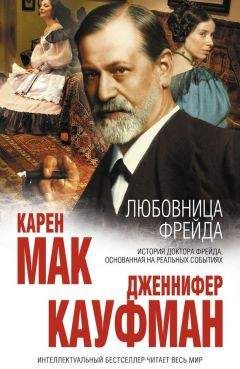Завершается очерк многозначительной фразой: «Нет, наша наука — не иллюзия. Но иллюзией было бы поверить тому, что мы откуда-нибудь могли бы получить то, чего наука дать не может»[277].
«Будущее одной иллюзии» вышло отдельной книгой в Международном психоаналитическом издательстве в ноябре 1927 года, и работа сразу же вызвала широкий общественный резонанс. Очерк, безусловно, произвел немалое впечатление и повлиял на умонастроения образованного европейского читателя, но одновременно Фрейд снова упал «меж двух стульев».
Для сторонников марксизма-ленинизма главным пороком очерка был «полный антиисторизм религиозной концепции Фрейда»[278], для защитников религиозных ценностей было ясно, что Фрейду, говоря словами Юнга, «никак не удается ухватить суть всего религиозного вообще».
«Будущее одной иллюзии» была главной, но далеко не единственной работой Фрейда 1927 года. В августе того же года Фрейд, пребывая в самом добром расположении духа, буквально в течение пяти дней пишет очерк «Юмор», который Анна зачитывает на открывшемся 1 сентября в Инсбруке 10-м Международном психоаналитическом конгрессе. В этом же году была написана и давно задуманная статья «Фетишизм».
* * *
Знаковой и, безусловно, самой интересной для русскоязычного читателя работой Фрейда 1928 года является статья «Достоевский и отцеубийство».
Федор Михайлович Достоевский был наряду с Томасом Манном и Дмитрием Мережковским одним из самых любимых писателей Фрейда. Интерес к творчеству Достоевского он испытывал на протяжении всей жизни. При этом он, видимо, был убежден, что понимает личность великого русского писателя лучше, чем кто-либо другой. В письме Стефану Цвейгу от 19 октября 1920 года, благодаря за присылку книги «Три мастера», Фрейд пеняет младшему другу на то, что очерк о Достоевском получился самым слабым в этой книге, так как Цвейг так и не смог проникнуть в суть личности Достоевского.
В 1923 году Фрейд выступил редактором книги немецкого исследователя Иолана Нейфельда «Достоевский: Психоаналитический очерк», которая, как ясно из самого ее названия, базировалась именно на идеях Фрейда. В основе работы Нейфельда лежала мысль о том, что ключом к личности Достоевского является эдипов комплекс, а образ Смердякова в определенном смысле слова является духовным двойником писателя.
Эта трактовка вызвала резкое неприятие у русских литературоведов и критиков. «Первая попытка применить психоанализ к Достоевскому показала, что крупица истины завалена грудой мусора необоснованных и вздорных заключений», — писал Ф. Ф. Бережков в вышедшем в 1928 году сборнике статей о Достоевском.
Фрейд в самом начале своей статьи, определяя место Достоевского в мировой культуре, указывает, что «он занимает место рядом с Шекспиром. „Братья Карамазовы“ — самый грандиозный роман из когда-либо написанных, а „Легенда о Великом инквизиторе“ — одно из наивысших достижений мировой литературы, которое невозможно переоценить».
Вслед за этим Фрейд резко восстает против обывательского представления о Достоевском как о «грешнике или преступнике», напоминая о Достоевском «с его огромной потребностью в любви и с невероятной способностью любить и помогать даже там, где он имел право на ненависть и на месть, как, например, в отношении своей первой жены и ее возлюбленного».
Приступая к анализу личности писателя, Фрейд выдвигает чрезвычайно интересную и выглядящую довольно убедительно гипотезу, что его эпилепсия носила не физиологический, а психологический, истерический характер.
«Наиболее правдоподобно предположение, — писал Фрейд, — что припадки имеют свои истоки в раннем детстве Достоевского; что поначалу они характеризовались более слабыми симптомами, лишь после потрясшего его в восемнадцатилетнем возрасте переживания — убийства отца — приняли форму эпилепсии… Мы знаем содержание и устремление таких припадков смерти. Они означают отождествление с покойником — человеком, действительно умершим или еще живущим, но которому желают смерти. Последний случай более важен. В этом случае припадок равноценен наказанию. Пожелавший другому смерти теперь сам становится этим другим и сам умирает. При этом психоаналитическое учение утверждает, что для мальчика, как правило, этим другим является отец, а стало быть, припадок, называемый истерическим — это самонаказание за желание смерти ненавистного отца…»
И далее: «Формула личности Достоевского такова: человек с особо сильной бисексуальной предрасположенностью, способный с особой силой бороться с зависимостью от чрезвычайно сурового отца… Следовательно, ранний симптом „приступов смерти“ можно понимать как допущенное „Сверх-Я“ в качестве наказания отождествления „Я“ с отцом. Ты захотел убить отца, дабы самому стать отцом. Теперь ты — отец, но мертвый отец, обычный механизм истерических симптомов».
Таким образом, всё сводится снова к эдипову комплексу и идеям отцеубийства, изложенным еще в книге «Тотем и табу».
Безусловно, о такой трактовке можно долго спорить. Безусловно, многие замечания Фрейда вызывают раздражение, а его фраза о том, что «сделка с совестью — типично русская черта», не может не вызвать справедливого возмущения у любого русского (как, впрочем, антисемитские пассажи Достоевского вызывают возмущение у евреев). И тем не менее следует признать, что, читая биографию Достоевского, невозможно отделаться от мысли, что Фрейд опять «в чем-то прав». Сама судьба и книги этого великого художника служат косвенным подтверждением справедливости многих концепций фрейдизма.
* * *
Осенью 1928 года Фрейд снова оказывается в Берлине, где проводит несколько месяцев в связи с возникшими проблемами челюсти, гайморовой полости и глотки. Вслух это не произносится, но врачи понимают, что рак возвращается, и, чтобы продлить жизнь Фрейду, придется пойти на радикальные меры.
В это время в Вене как раз шел судебный процесс над лидером австрийских коммунистов Иоганном Копленигом, обвиненным в организации нападения на Дворец юстиции в июле 1927 года. Речь идет об одной из самых трагических страниц в истории Австрии, когда после оправдания активистов профашистского движения «Хеймвер», убивших женщину с ребенком, в городе вспыхнули демонстрации и массовые беспорядки. В ходе их подавления полицией 89 человек были убиты и сотни получили ранения.
Вена продолжала бурлить, политические схватки между коммунистами, социал-демократами, национал-социалистами, сторонниками христианско-социальной партии достигли крайнего напряжения. На фоне социальных, политических и экономических неурядиц в Австрии в целом и в Вене в особенности усилился антисемитизм. Австрийские фашисты избивали евреев на улицах, срывали лекции еврейских профессоров в университетах, сеяли в столице атмосферу террора и страха.
Фрейд, мягко говоря, слабо разбиравшийся в политике, был совершенно растерян происходящим и в своей полной политической слепоте возлагал надежды на воссоединение Австрии с Германией и торжество «немецкого духа», под которым он понимал исключительно «дух Гёте». «Вена катится в пропасть и может погибнуть, если мы не добьемся знаменитого аншлюса», — писал Фрейд в конце 1928 года племяннику Сэму. Правда, Пол Феррис замечает, что дело было не в том, что он совсем не видел опасности прихода в Германии к власти нацистов. Просто, как большинство австрийских и немецких евреев, Фрейд верил, что немецкая духовность и немецкий здравый смысл не допустят такого развития событий.
Можно ли винить Фрейда за эту близорукость? Вряд ли, ибо так тогда рассуждали многие немецкие интеллигенты, а Фрейд, как мы уже говорили, за вычетом своей гениальности в области трактовки человеческой психики, был самым заурядным обывателем.
Летом 1929 года состояние здоровья Фрейда вроде бы стабилизировалось и он отправился вместе с семьей на отдых в Альпы, где снял просторный дом «Шнеевинкель» («Снежный угол»). В доме постоянно появлялись гости, за столом шли интересные разговоры, и если что-то и омрачило жизнь Фрейда в эти идиллические дни, то короткий отъезд Анны на конференцию в Оксфорд. Оказавшись без опеки дочери, Фрейд затосковал — как и оставленная Анной на попечение родителей немецкая овчарка по кличке Волк. «Как и Волк, я не могу дождаться, когда она вернется», — писал Фрейд Лу Андреас-Саломе.
Но уже осенью он снова оказывается в Берлине в связи с необходимостью пройти новый курс лечения.
За несколько месяцев до этого в личной жизни Фрейда произошло знаменательное событие: Мари Бонапарт познакомила его с Максом Шуром и настояла, чтобы тот стал постоянным лечащим врачом Фрейда.
«Выбор Шура домашним врачом оказался превосходным. Он установил великолепные отношения со своим пациентом, и его внимательность, неистощимое терпение и изобретательность были непревзойденными. Они с Анной составили идеальную пару ангелов-хранителей, охраняющих страдающего Фрейда и облегчающих его разнообразные неудобства», — писал Эрнест Джонс в биографии Фрейда.