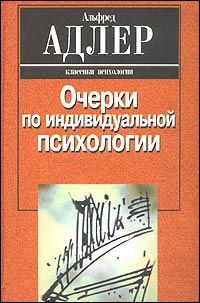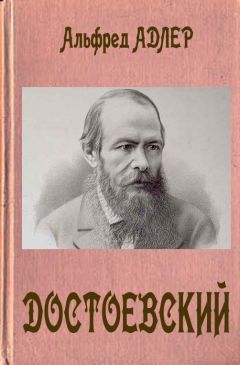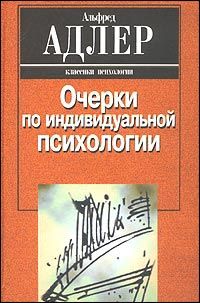боль является источником физиологических реакций, и говорит видимость и даже известный философский предрассудок, но в некоторых случаях, если точно наблюдать, реактивное движение явно появляется раньше, чем ощущение боли. Было бы очень печально, если бы я, например, оступившись, должен был ждать, пока этот факт ударит в колокол моего сознания и пока в ответ оттуда не последует по телеграфу образного распоряжения, как поступить. Наоборот, я ясно различаю, насколько только это возможно, что сначала следует реактивное движение ногой, направленное на предотвращение падения, а только затем, через некоторый определенный промежуток времени до моего сознания достигает род болевой волны. Следовательно, реагируют не на боль. Боль потом проецируется в израненное место, но сущность этой местной боли не является тем не менее выражением особенностей местного поранения — она простой знак места, сила и ток которого соответствуют свойству того поранения, которое получили при этом нервные центры. То обстоятельство, что, благодаря вышеупомянутому choc’y, мышечная сила организма понижается на измеримую величину, еще отнюдь не дает основания искать сущности боли в уменьшении чувства власти.
Реагируют, повторяю еще раз, не на боль — неудовольствие не есть «причина» поступков. Сама боль есть известная реакция, реактивное же движение есть другая и более ранняя реакция, обе своей исходной точкой имеют различные места.
234. Интеллектуальность боли: она сама по себе является выражением не того, что в данный момент повреждено, а того, какую ценность имеет повреждение в отношении к целому индивиду.
Существуют ли боли, при которых страдает «род», а не индивид?
235. «Сумма неудовольствия перевешивает сумму удовольствия; следовательно, небытие мира было бы лучше, чем его бытие». «Мир есть нечто такое, чему по разуму не следовало бы быть, потому что он причиняет ощущаемому субъекту больше неудовольствия, чем удовольствия», — такого рода болтовня именует себя в наше время пессимизмом!
Удовольствие и неудовольствие — второстепенные вещи, не причины; это суждения ценности второго ранга, которые только выводятся из господствующей ценности; нечто, что в форме известного чувства говорит «полезно», «вредно», а следовательно — нечто абсолютно поверхностное (мимолетное) и зависимое. Ибо при всяком «полезно», «вредно» могут быть поставлены в виде вопроса сотни различных «для чего?».
Я презираю этот пессимизм чувствительности: он сам есть признак глубокого обнищания жизни.
236. Человек не ищет удовольствия и не избегает неудовольствия — читатель поймет, с каким глубоко укоренившимся предрассудком я беру на себя смелость бороться в данном случае. Удовольствие и неудовольствие суть только следствия, только сопутствующие явления; то, чего хочет человек, чего хочет всякая самая маленькая часть живого организма, — это плюса власти. В стремлении к этому возникают в качестве следствий и удовольствие и неудовольствие; исходя из этой воли, человек ищет сопротивления, человек нуждается в чем-то таком, что противопоставило бы себя ему… Итак, неудовольствие как результат стеснения его воли к власти, есть нормальный факт, нормальный ингредиент всякого органического процесса; человек не уклоняется от него; наоборот, он в нем постоянно нуждается — всякая победа, всякое чувство удовольствия, всякий процесс предполагает устраненное сопротивление.
Возьмем самый простой случай, случай примитивного питания: протоплазма вытягивает свои псевдоподии, чтобы отыскать нечто такое, что окажет ей сопротивление — не из чувства голода, а из воли к власти. Затем она делает попытку преодолеть это нечто, усвоить его, включить его в себя — то, что называют «питанием», это только производное явление, применение к частному случаю упомянутой раньше изначальной воли стать сильнее.
Таким образом, неудовольствие не только не влечет за собой уменьшения нашего чувства власти, а, напротив, обычно действует на это чувство власти именно как раздражение, — стеснение играет роль stimulus’a [49] этой воли к власти.
237. Неудовольствие вообще смешали с одним видом неудовольствия, с неудовольствием от истощения; последнее действительно представляет глубокое уменьшение и понижение воли к власти, измеримую потерю силы. Это значит, что существует: а) неудовольствие как средство раздражения для усиления власти и б) неудовольствие как следствие расточения власти; в первом случае это stimulus, во втором — результат чрезмерного раздражения. Последний вид неудовольствия характеризуется неспособностью к сопротивлению; первый — вызовом, бросаемым противнику. Единственное удовольствие, которое еще может ощущаться в состоянии истощения — это засыпание; в остальных случаях удовольствие есть победа.
Великое смешение, допущенное психологами, заключалось в том, что они не различали этих обоих видов удовольствия: удовольствие от засыпания и удовольствие от победы. Истощенные хотят покоя, хотят расправить свои члены, хотят мира, тишины — это счастье нигилистических религий и философий; богатые и живые хотят победы, преодоленных противников, хотят для своего чувства власти завоевания новых областей. Эту потребность ощущают все здоровые функции организма — и организм, взятый в целом, является комплексом такого рода систем, борющимся за рост чувств власти.
238. Каким образом случилось так, что все без исключения основные догматы психологии представляют собой грубейшие заблуждения и подтасовки? «Человек стремится к счастью», например — есть ли в этом утверждении хоть доля истины?
Чтобы понять, что такое «жизнь» и какой род стремления и напряжения она представляет, эта формула должна в одинаковой мере относиться как к дереву или растению, так и к животному. «А к чему стремится растение?» Но, спрашивая таким образом, мы уже выдумали некоторое ложное единство, которого не существует; выдвигая вперед это неуклюжее единство «растение», мы тем самым заслоняем и отрицаем факт бесконечного разнообразия форм органического роста, обладающих собственной и полусобственной инициативой. Что последние мельчайшие «индивиды» не могут быть поняты в смысле «метафизического индивида» и атома, что сфера их власти постоянно перемещается — это прежде всего бросается в глаза; но разве каждый из них, когда он переживает такие изменения, стремится к счастью?
Ведь всякое саморасширение, усвоение, рост представляют устремление к тому, что сопротивляется; движение есть нечто, связанное по существу с состояниями неудовольствия; то, что в этом случае является движущим началом, должно во всяком случае хотеть чего-либо иного, раз оно таким способом стремится к неудовольствию и постоянно его ищет.
Из-за чего деревья первобытного леса борются друг с другом? Из-за счастья? Из-за власти…
Человек, ставший господином сил природы, господином своей собственной дикости и разнузданности (желания научились слушаться, быть полезными) — человек в сравнении с до-человеком представляет колоссальное количество власти, а не плюс «счастья»! Как можно утверждать, что он стремился к счастью?
239. Утверждая это, я не забываю, что на моем небе среди звезд сверкает также бесконечная цепь заблуждений, которые до сих пор считались счастливейшими вдохновениями человечества. «Всякое счастье есть следствие добродетели, всякая добродетель — следствие свободной воли»! Обратим ценности: всякая пригодность есть следствие счастливой организации, всякая свобода — следствие пригодности. (Свобода