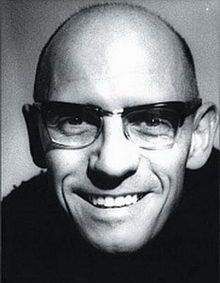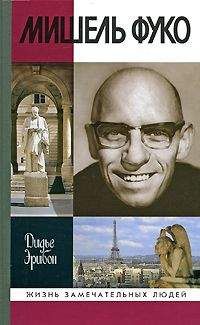и знанием о болезни — или, во всяком случае, может стать техникой и знанием о болезни лишь во вторую очередь, как бы в крайнем случае. В 1850–1870-е гг. (в эпоху, о которой я сейчас говорю) психиатрия выпускает из рук и бред, и умопомешательство, и отсылку к правде, и, в конце концов, болезнь. Она сосредоточивает свое внимание на поведении, на его отклонениях и аномалиях; она принимает в качестве своего референта нормативное развитие. И потому имеет дело, на фундаментальном уровне, уже не с болезнью или болезнями; это медицина, которая закрывается перед патологическим. И вы видите, в какой ситуации оказывается эта медицина начиная с середины XIX века. Она оказывается в парадоксальной ситуации, ибо в самом начале XIX века ментальная медицина оформилась как наука, определив безумие в качестве болезни; с помощью множества процедур (в том числе аналогичных тем, о которых я говорил только что) она обосновала безумие как болезнь. Именно так ей удалось оформиться в качестве специальной науки рядом с медициной и внутри нее. Патологизировав безумие путем анализа симптомов, классификации форм, построения этиологии, психиатрия сумела сформировать медицину, специально посвященную безумию: это была медицина алиенистов. И вот в 1850–1870-е гг. перед ней встает задача сохранить свой статус медицины, в коем сосредоточены (как минимум, отчасти) эффекты власти, которую она пытается генерализовать. Однако эти эффекты власти и статус медицины, являющийся их принципом, психиатрия прилагает теперь к тому, что даже в ее собственном дискурсе имеет уже не статус болезни, но статус аномалии.
Попытаюсь выразить это немного проще. Когда психиатрия оформлялась как медицина умопомешательства, она психиатризировала безумие, которое, может быть, и не было болезнью, но которое она была вынуждена, чтобы сделаться медициной, рассматривать и употреблять в своем собственном дискурсе именно в качестве болезни. Она могла установить свое властное отношение над безумцами не иначе как введя такое же объектное отношение, с каким медицина относится к болезни: ты будешь болезнью для знания, которое позволит мне функционировать в качестве медицинской власти. Вот что, в общем и целом, говорила психиатрия в начале XIX века. Но с середины XIX века мы имеем дело с властным отношением, которое действует (и по сей день действует) лишь постольку, поскольку психиатрия, будучи властью с медицинской квалификацией, при этом подвергает своему контролю область объектов, определенных не в качестве патологических процессов. Произошла депатологизация объекта: именно она была условием того, что власть психиатрии, оставшись медицинской, сумела генерализоваться. И тут поднимается проблема: как может функционировать такое технологическое устройство, такое знание-власть, в котором знание заведомо депатологизирует область объектов, преподносимую им власти, которая, в свою очередь, не может существовать иначе, нежели в качестве медицинской власти? Медицинская власть над непатологическим: вот в чем, на мой взгляд, центральная, но очевидная, возможно, скажете вы мне, проблема психиатрии. Во всяком случае, именно в таком виде эта власть формируется — и формируется как раз вокруг определения детства как центральной точки, исходя из которой возможна генерализация.
Я хотел бы лишь вкратце восстановить историю происшедшего в это время и начиная с этого времени. Чтобы привести в действие два этих отношения — отношение власти и объектное отношение, не однонаправленные и даже гетерогенные друг другу, медицинское отношение власти и отношение к депатологизированным объектам, — психиатрии второй половины XIX века пришлось возвести ряд великих теоретических зданий, как я буду называть их в дальнейшем; теоретических зданий, не столько являющихся выражением, или отражением, этой ситуации, сколько продиктованных функциональной необходимостью. Мне кажется, что надо попытаться проанализировать эти мощные структуры, эти мощные теоретические дискурсы психиатрии конца XIX века, и проанализировать их в терминах технологической пользы, исходя из того, как в эпоху, о которой мы говорим, эти теоретические или спекулятивные дискурсы помогали удержать или, при необходимости, усилить эффекты власти и эффекты знания психиатрии. Я дам лишь приблизительный очерк этих великих теоретических сооружений. Прежде всего изучим построение новой нозографии, имеющее три аспекта.
Во-первых, требуется организовать и описать не как симптомы некоей болезни, но как, в некотором смысле, самодостаточные синдромы, как синдромы аномалий, ненормальные синдромы, целый комплекс поведенческих нарушений, отклонений и т. п. В связи с этим во второй половине или в последней трети XIX века происходит то, что можно охарактеризовать как утверждение эксцентричностей в виде четко определенных, самостоятельных и распознаваемых синдромов. Так пейзаж психиатрии наполняется целым племенем, которое для нее в это время совершенно ново: это племя носителей не то чтобы симптомов болезни, но, скорее, синдромов, которые сами по себе являются ненормальными, или эксцентричностей, утвержденных в виде аномалий. Мы можем выстроить целую их династию. Кажется, одним из первых синдромов аномалии была знаменитая агорафобия, описанная Крафт-Эбингом, вслед за которой возникла и клаустрофобия. В 1867 г. во Франции Забе защищает медицинскую диссертацию о больных-поджигателях. В 1879 г. Горри описывает клептоманов [326]; в 1877 г. Лазег описывает эксгибиционистов. В 1870 г. Вестфаль, в «Архивах неврологии», описывает гомосексуалов. Впервые гомосексуальность предстает в качестве синдрома внутри психиатрического поля. И далее — целая вереница [327]. Кстати, в тех же самых 1875–1880 гг. появляются мазохисты. Можно было бы написать целую историю этого народца ненормальных, целую историю синдромов аномалии, появившихся в подавляющем большинстве начиная с 1865–1870 гг. и заселявших психиатрию до конца XX века. Так, когда общество защиты животных начнет кампанию против вивисекции, Маньян, один из крупных психиатров конца XIX века, откроет новый синдром — синдром антививисекционистов [328]. И я хочу подчеркнуть, что все это не является, как видите, симптомами болезни: это синдромы, то есть отдельные устойчивые конфигурации, соотносящиеся с общим состоянием аномалии.
Второй особенностью новой нозографии, складывающейся в это время, явилось то, что может быть названо возвращением бреда, новой переоценкой проблемы бреда. В самом деле, учитывая, что бред традиционно считался ядром душевной болезни, понятно, что как только областью вмешательства психиатрии стала область ненормального, психиатры оказались заинтересованы в том, чтобы связать ненормальное с бредом, ибо бред как раз и предоставлял им медицинский объект. Обнаружив следы, нити бреда во всех этих разновидностях ненормального поведения, из которых выстраивалась общая «синдроматология», психиатры смогли бы осуществить обратное превращение ненормальности в болезнь. Поэтому медикализация ненормального подразумевала, требовала или, во всяком случае, делала желательным сопряжение анализа бреда с анализом игр инстинкта и удовольствия. Смычка эффектов бреда с механикой инстинктов, с экономикой удовольствия: вот что помогло бы выстроить подлинную ментальную медицину, подлинную психиатрию ненормального. И все в той же последней трети XIX века возникают масштабные типологии бреда, причем такие типологии, принципом которых является уже не объект, не тематика бреда, как это было в эпоху Эскироля, но, скорее, инстинктуально-аффективное ядро, экономика инстинкта и удовольствия, являющаяся подоплекой бреда. Исходя из