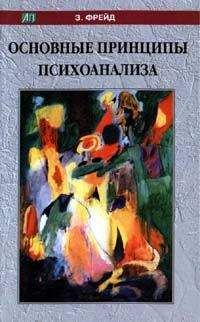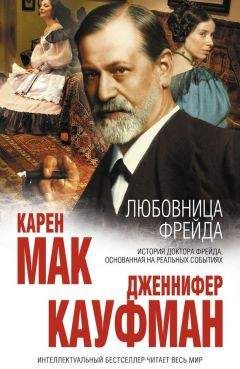И поскольку моей единственной целью было найти место египетского Моисея в схеме еврейской истории, я могу на этом закончить. Теперь можно свести все наши выводы в одну кратчайшую формулу: хорошо известная дуальность этой истории - слияние двух народов в один; два царства, на которые он потом разделяется; два имени Божества в библейских источниках, одно из которых сначала вытесняется другим, а затем победоносно возвращается; два основателя религии с одним и тем же именем Моисей, которых нужно отличать друг от друга, - все это является неизбежным следствием самой первой дуальности: одна часть народа прошла через событие, которое верно было бы назвать травматическим испытанием, тогда как другая была от него избавлена. Конечно, многое еще нужно обсудить, объяснить и доказать. Только тогда мы могли бы надежно гарантировать интерес к этому чисто историческому исследованию. Было бы чрезвычайно соблазнительно воспользоваться частным случаем еврейской истории, чтобы попытаться понять, в чем по существу состоит скрытая природа традиции и что обуславливает ее странную власть над умами, насколько нелепо отрицать личное влияние отдельных великих людей на ход исторических событий, каким упрощением грандиозного многообразия человеческой жизни было бы сводить все движущие мотивы людей исключительно к материальным потребностям, откуда берется сила, с которой определенные идеи, в особенности религиозные, подчиняют себе отдельных людей и целые народы. Такое продолжение нашего очерка можно было бы связать с положениями, выдвинутыми четверть века назад в моей книге "Тотем и табу". Но я вряд ли могу и дальше рассчитывать на свои силы.
Часть 3. МОИСЕЙ, ЕГО НАРОД И МОНОТЕИСТИЧЕСКАЯ РЕЛИГИЯ
Первое предисловие
(написанное не позднее марта 1938 года в Вене)
С дерзостью человека, которому почти или совсем нечего терять, я намереваюсь вторично нарушить вполне обоснованное решение и продолжить два первых эссе о Моисее этим заключением, от публикации которого до сих пор воздерживался. В конце своего последнего эссе я писал, что, вряд ли могу и дальше рассчитывать на свои силы. Я имел в виду, разумеется, спад творческих способностей, сопровождающий старость, - но было и другое препятствие. Мы живем в примечательные времена. Мы с удивлением видим, что прогресс вступил в союз с варварством. В Советской России была сделана попытка удушить жизнь миллионов людей, доселе живших под гнетом. Власти оказались достаточно реши тельными, чтобы лишить их религиозного транквилизатора, и достаточно умны, чтобы дать им разумную меру сексуальной свободы. Но при этом они подвергли своих граждан самому жесточайшему насилию и отняли у них всякую возможность свободы мысли. Итальянцев сегодня приучают к порядку и чувству долга с той же варварской жестокостью. Поистине тяжесть сваливается с сердца, когда хоть на примере немецкого народа видишь, что этот возврат к доисторическому варварству может происходить и вне связи с идеей прогресса. Как бы то ни было, события развиваются так, что сегодня консервативные демократии, да, пожалуй - как ни странно - католическая церковь остались единственными защитниками культурного прогресса. Та самая католическая церковь, которая до сих пор была неумолимым врагом всякой свободы мысли и решительно отказывалась признать, что нашим миром правит стремление к поиску истины!
Мы живем в католической стране, живем под защитой этой церкви, не зная, насколько хватит этой защиты. Но пока ее хватает, я, естественно, не решаюсь сделать что-либо такое, что возбудит враждебность этой церкви. Не из трусости, а из осторожности; новый враг (национал-социализм. - Прим. переводчика), которому я не хотел бы способствовать чем бы то ни было, куда опаснее старого, с которым мы уже научились жить в мире. Более того, психоаналитические исследования давно возбуждают подозрительность католицизма. Не буду утверждать, что эта подозрительность необоснованна. Коль скоро наши исследования ведут к признанию религии неврозом человечества и к объяснению ее грандиозной власти над людьми тем же механизмом, что власть навязчивого невроза над больными, не приходится сомневаться, что это вызывает сильнейшее недовольство властей предержащих в нашей стране. Дело не в том, будто я намерен сказать нечто новое, чего еще не высказал за последнюю четверть века. Но сказанное, увы, забыто, и потому я считаю полезным повторить это снова и проиллюстрировать на типичном примере возникновения одной конкретной религии. Не исключено, что это повлечет за собой запрет на психоанализ. Такие резкие меры подавления ни в коей мере не чужды католической церкви; она даже расценивает как покушение на свои прерогативы, когда другие прибегают к таким же мерам. Увы, психоанализ, повсеместно распространившийся за время моей долгой жизни, все еще не нашел более подходящего приюта, чем в городе, где он возник и сложился.
Я не только думаю, я знаю, что эта внешняя опасность помешает мне опубликовать заключительную часть моей трактовки Моисея. Я пытался преодолеть это препятствие, сказав себе, что мои опасения проистекают из переоценки значимости моей персоны и что властям, скорее всего, нет дела до моего мнения о Моисее и происхождении монотеистической религии. Но я не уверен, что правильно оцениваю ситуацию. Боюсь, что злорадство и жажда сенсации могут с избытком компенсировать ту значимость, которой мне недостает в глазах мира. Поэтому я не опубликую этот очерк. Но это не помешает мне написать его. Тем более, что он уже был однажды написан, два года назад, и теперь нуждается только в переделке и объединении с двумя предыдущими эссе. Так что пусть он лежит в укрытии до тех пор, пока не сможет безопасно появиться на свет Божий или пока кто-нибудь другой, придя к тем же выводам, не скажет: "В те мрачные времена жил человек, который замышлял то, что я сделал".
Второе предисловие
(июнь 1938, Лондон)
Необычайные трудности, стоявшие передо мной во время работы над очерком о Моисее - как внутренние опасения, так и внешние препятствия, - привели к тому, что его третья и последняя часть имеет два предисловия, которые противоречат, в сущности - даже исключают друг друга. Ибо за короткий период между написанием этих двух предисловий внешние обстоятельства жизни автора кардинально изменились. Прежде я жил под защитой католической церкви и боялся, что, опубликовав этот очерк, лишусь ее покровительства, а практики и теоретики психоанализа в Австрии не смогут продолжать свою работу. Затем, внезапно, грянуло немецкое нашествие, и католицизм оказался, как говорит Библия, "сломанной тростинкой". Не сомневаясь, что на меня обрушатся преследования - теперь уже не только из-за моих трудов, но и из-за моей "расы" - я со многими друзьями покинул город, который с раннего детства, семьдесят восемь лет подряд, был моим домом.
Я нашел самый теплый прием в прекрасной, свободной, благородной Англии. Здесь я живу сейчас, - дружелюбно принятый гость, чудом спасшийся от преследований, - и счастлив, что могу опять говорить и писать, - я чуть не сказал "думать" - так, как я хочу или должен. И теперь я решаюсь представить читателям последнюю часть моего очерка.
Надо мной не тяготеют ныне никакие внешние препятствия - во всяком случае, такие, которые могли бы меня встревожить. В последние недели я получил много приветствий от друзей, которые пишут, как они рады, что я здесь, а также от незнакомых мне людей, которых вовсе не интересуют мои исследования и которые попросту выражают удовлетворение, что я обрел здесь свободу и безопасность. А вдобавок приходит поразительное для иностранца количество писем другого рода, выражающих заботу о состоянии моей души и желание указать мне путь к Христу и просветить в отношении будущего, которое ожидает Израиль. Все эти добрые люди вряд ли знают меня достаточно близко. Боюсь, что после опубликования моей новой работы я утрачу среди этих корреспондентов и многих других значительную часть той симпатии, которую они дарят мне сейчас.
Внутренние трудности не зависят от политических режимов и нового местожительства. Как и прежде, я испытываю неловкость, глядя на свою работу: мне недостает ощущения целостности и интимности, которые должны существовать между автором и его творением. Не то, чтобы я не был уверен в истинности моих результатов. Эту уверенность я обрел уже четверть века назад, когда написал 'Тотем и табу" (1912), и с тех пор она только укрепилась. С того времени я никогда не сомневался, что религиозные явления можно понять лишь на основе модели невротических симптомов - как возвращение давно забытых и важных событии в ранней истории человеческой семьи; что своим навязчивым характером эти явления обязаны именно такому происхождению, а свое поразительное влияние на человечество черпают из той исторической правды, которую в действительности содержат. Моя неуверенность начинается лишь в тот момент, когда я задаю себе вопрос, сумел ли я доказать это на избранном здесь примере еврейского монотеизма. Внутреннему моему критическому взору это исследование, начинающееся с анализа человека Моисея, представляется чем-то вроде танцора, стоящего на одном пальце. Если бы я не нашел поддержки в мифе о происхождении героя, а затем в догадке Селлина о гибели Моисея, весь этот очерк вероятно остался бы ненаписанным. Но позвольте мне приступить к делу.