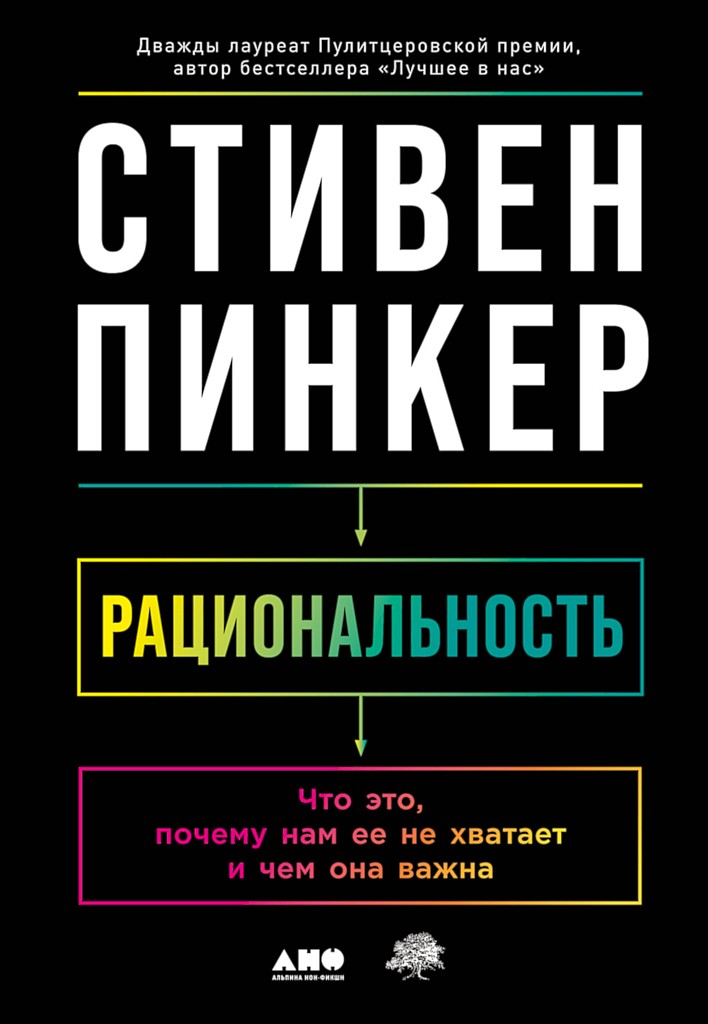Дэвид Майерс говорил, что суть монотеизма сводится к следующему: (1) бог есть и (2) это не я (и не ты) [69]. Светский эквивалент звучит так: (1) объективная истина существует и (2) мне она неизвестна (как и тебе). Та же эпистемологическая скромность распространяется и на рациональность, которая ведет к этой истине. Безупречная рациональность и объективная истина — идеалы, на обладание которыми не может претендовать ни один смертный. Однако твердое убеждение в том, что они существуют, позволяет нам вырабатывать правила, подчиняясь которым мы сообща можем приблизиться к истине — так, как ни один из нас не в силах сделать это в одиночку.
Эти правила созданы, чтобы избавиться от заблуждений, мешающих рациональности: присущих человеческой природе когнитивных иллюзий, а также предубеждений, предрассудков, фобий и всяческих — измов, поражающих представителей любых рас, классов, гендеров, ориентаций и цивилизаций. К этим правилам относятся принципы критического мышления, а также нормативные системы математической логики, теории вероятности и эмпирического познания, о которых я буду говорить в следующих главах. В повседневную жизнь они внедряются посредством общественных институтов, которые не дают людям навязывать свою гордыню, предрассудки и иллюзии всем остальным. «Честолюбию должно противостоять честолюбие», — писал Джеймс Мэдисон, рассуждая о сдержках и противовесах демократического образа правления; таким же образом и другие институты направляют сообщества заблуждающихся и одурманенных честолюбием людей к непредвзятой истине. В качестве примеров можно привести состязательность в правосудии, принцип взаимного рецензирования в науке, проверку фактов и редактуру в журналистике, академические свободы университетов и свободу слова в пространстве общественной дискуссии. Несогласие необходимо смертным для принятия решений. Как говорится, чем сильнее мы расходимся во мнениях, тем больше шансов, что хотя бы один из нас прав.
* * *
Хотя нам, возможно, так никогда и не удастся доказать, что рациональность позволяет прийти к верным выводам или что истина постижима (так как для этого нам с самого начала придется согласиться с ценностью разума), подкрепить свою убежденность в этом нам вполне по силам. Размышляя о разуме, мы понимаем, что это не какое-то невнятное шестое чувство, не мистический оракул, нашептывающий правильные ответы прямо нам в ухо. Мы можем вычленить правила рассуждения, очистить и переплавить их в нормативные модели логики и вероятности. Мы можем даже внедрить их в машины, которые копируют наш разум и превосходят его по мощности. Компьютеры — это буквально материализованная логика: даже их базовые элементы называются логическими вентилями.
Есть и еще одно подтверждение оправданности разума: он работает. Жизнь — это не сон, где мы без цели и смысла оказываемся в разных местах, а всякие странные вещи случаются ни с того ни с сего. Перебравшись через стену, Ромео действительно поцелует Джульетту. Применив разум по-другому, мы слетали на Луну, изобрели смартфон и искоренили оспу. Реальность охотно подчиняется нам, когда мы используем разум, и это веское свидетельство в пользу того, что рациональность действительно помогает приблизиться к объективной истине.
Даже релятивисты, отрицающие существование объективной истины и настаивающие, что любые утверждения всего лишь культурные нарративы, уступают в смелости собственным заявлениям. Культурные антропологи и семиотики, полагающие, что научные истины всего лишь нарративы одной из множества культур, тем не менее лечат своих детей прописанными доктором антибиотиками, а не исцеляющими завываниями шамана. И хотя релятивизм часто окружен ореолом высокой морали, моральные убеждения релятивистов основаны на приверженности объективной истине. Неужели рабство — миф, а холокост — всего лишь один из множества возможных нарративов? Что, и изменение климата — тоже социальный конструкт? Или все-таки страдания и опасности, делающие все эти события выпукло реальными, — свидетельства, в истинности которых мы убеждены благодаря логике, доказательствам и беспристрастному рассмотрению? Тут релятивисты уже не так цепляются за свой релятивизм.
По той же причине не может быть никакого конфликта между рациональностью и социальной справедливостью или любой другой нравственной или политической идеей. Поиски социальной справедливости начинаются с утверждения, что одни социальные группы угнетены, а другие привилегированны. Это фактическое утверждение, и, как любое такое утверждение, оно может оказаться ошибочным (как настаивают сами защитники социальной справедливости в ответ на обвинения, будто сейчас сильнее всех прочих угнетены белые мужчины традиционной сексуальной ориентации). Мы придерживаемся этих убеждений, потому что разум и факты говорят нам, что они верны. В свою очередь, направление наших поисков определяется уверенностью, что для искоренения несправедливости необходимо принимать определенные меры. Достаточно ли ввести единые для всех правила игры? Или же историческая дискриминация поставила ряд групп в такое невыгодное положение, что исправить дело можно только компенсационной политикой? Не окажутся ли какие-то из этих мер чисто символическими, никак не помогающими дискриминируемым группам? Не ухудшится ли в итоге общая ситуация? Поборникам социальной справедливости необходимо знать ответы на все эти вопросы, а разум — единственный инструмент, позволяющий что бы то ни было знать.
Соглашусь, особая природа аргументации в защиту разума всегда оставляет оппоненту лазейку. Излагая доводы в пользу разума, я писал: «…если люди приводят аргументы и убеждают…» — но это очень существенное «если». Отрицатели рациональности могут отказаться играть по правилам. Они могут сказать: «Я не обязан вам ничего доказывать. Ваше требование привести доводы и доказательства только подтверждает, что вы сами — часть проблемы». Не ощущая потребности убедить оппонента, люди, уверенные в собственной правоте, насаждают свои убеждения силой. В теократиях и автократиях власти затыкают несогласным рты, бросают их в тюрьмы, изгоняют или сжигают живьем. В демократиях принуждение не настолько грубое, но люди все равно находят способы вдолбить убеждение, а не доказать его. Современные университеты (что странно, учитывая, что их миссия — оценивать идеи) возглавили поиски способов душить свободу мнений: ученым не дают выступать, их освистывают; профессоров изгоняют из аудиторий и увольняют; спорные статьи изымают из архивов; расхождение во мнениях наказуемо как травля и дискриминация [70]. На все недоуменные вопросы они отвечают так же, как отвечал отец Рингу Ларднеру, когда писатель был ребенком: «„Заткнись“, — объяснил он».
Если вы уверены в своей правоте, почему вы вообще должны убеждать кого бы то ни было разумными доводами? Почему бы просто не крепить солидарность своих сторонников и не мобилизовывать их на борьбу за справедливость? Во-первых, это вызовет вопросы: с какой стати вы считаете себя непогрешимым? Вы уверены, что вам известно все на свете? Тогда чем вы отличаетесь от ваших оппонентов, которые так же уверены в своей непогрешимости? Чем вы отличаетесь от правящих кругов прошлого, которые настаивали на своей правоте, а время показало, что они ошибались? Если вам приходится затыкать рты несогласным,