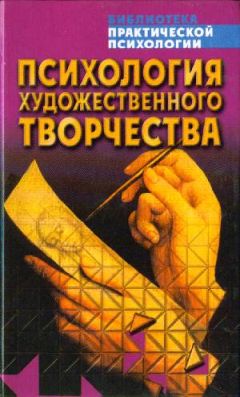И только в волшебной сказке, где мифический Космос уступает место не племенному государству, а семье, процесс «персонализации» проявляется ощутимым образом, несмотря на то, что сказочные персонажи гораздо пассивнее эпических (вплоть до иронического Иванушки-дурачка) и что в известном смысле за них действуют волшебные помощники. В сказке герой часто дается в соотношении со своими соперниками и завистниками, которые стремятся приписать себе его подвиги и овладеть наградой. Выяснение, кто именно истинный герой, очень важно для сказки, и в рамках ее возникает архетипический мотив «идентификации», установления авторства подвига. Для нас важно подчеркнуть, что герой противопоставляется не только хтоническим чудовищам (например, дракону, которого он должен победить, чтобы спасти царевну), но и членам своего узкого социума, например, старшим братьям или сестрам, мачехиным дочкам, царским зятьям. Сказка в отличие от мифа открывает путь для свободного сопереживания, для психологии исполнения желаний: приобретения чудесных предметов, исполняющих желания, и женитьбы на царевне — прежде всего. Сказочная царевна, с точки зрения юнгианцев, есть «Анима» героя, т.е. женский вариант его души (что достаточно спорно).
Пре-персональный мифический герой в известном смысле имплицитно отождествлялся с социумом, эксплицитно действовал на космическом фоне. Персонализованный сказочный герой представляет личность, действующую на социальном фоне, выраженном в семейных терминах. Важнейший архетип, порожденный сказкой, — это мнимо «низкий» герой, герой, «не подающий надежд», который затем обнаруживает свою героическую сущность, часто выраженную волшебными помощниками, торжествует над своими врагами и соперниками. Изначально низкое положение героя часто получает социальную окраску обычно в рамках семьи: сирота, младший сын, обделенный наследством и обиженный старшими братьями, младшая дочь, падчерица, гонимая злой мачехой. Социальное унижение преодолевается повышением социального статуса после испытаний, ведущих к брачному союзу с принцессой (принцем), получением «полцарства». Сам образ принцессы символизирует этот социальный сдвиг в судьбе героя, а не только его женскую ипостась (Аниму), как утверждают юнгианцы.
Указанный архетип отражает исторический переход от рода к семье, разложение родового уклада. При этом младший сын в силу перехода от архаического минората к патриархальному майорату и падчерица в силу того, что само появление «мачехи» есть результат нарушения родовой эндогамии, т.е. возникновения браков на женщинах за пределами «класса жен», вне своего племени, являются жертвами этого процесса. Эти архетипические мотивы, имплицитно социальные, обычно обрамляют ядро сказки, в которой реализуются более старые архетипические мотивы, унаследованные от мифа и лишь слегка трансформированные. В частности, связанные с обрядом инициации и борьбой против сил Хаоса, добыванием объектов из иного мира, женитьбой на «тотемной» жене и т.д. В бытовой сказке место волшебных сил занимает собственный ум героя и его судьба, в сказке о животных и анекдотической сказке развивается архетип трикстера, торжествующего над простаками и глупцами. В легендах о пророках и подвижниках используются архетипические мотивы мифов о культурных героях и периферийные мотивы эпоса и сказки.
В рыцарских (куртуазных) романах завершается трансформация архетипов, намеченных в сказке и эпосе. Более того, именно в куртуазном романе архетипы выступают в наиболее «очищенном» виде, очень напоминающем то, что юнгианцы искали в самых древних мифах.
По сравнению с эпическим героем, рыцарь вполне персонализирован и обходится без буйного своеволия, в нем больше цивилизованности. На старый эпический архетип героя оказывает давление новый романический идеал. Собственно рыцарское начало, которое можно соотнести с представлением об эпическом герое, приближается, отчасти, к тому, что К.-Г. Юнг называл «Персоной». Это начало вступает в противоречие с глубинным, подсознательным проявлением как раз не коллективного, а индивидуального начала души. Это индивидуальное начало проявляется прежде всего в стихийном, фатальном любовном чувстве к уникальному объекту. Попытки заменить его другим объектом не удаются. Самый яркий пример: Тристан не может забыть Изольду белокурую в объятиях Изольды белорукой. Между тем это фатальное чувство социально деструктивно, оно ведет к супружеским изменам, инцесту (связь Тристана с женой дяди, сюзерена Марка, или связь Рамина в персидском романе «Гургани» с женой старшего брата и властителя Мубада, или связь Гендзи в японском романе «Мурасаки» с наложницей отца-императора и т.п. — все это преображенные мифологемы смены поколения вождей), позору племени (любовь Кайса-Меджнуна к Лейле у Низами) или просто к отвлечению от рыцарских приключений и выполнения рыцарского долга (в романах Кретьена де Труа).
В ранних рыцарских романах (например, в «Тристане и Изольде») конфликт не получает разрешения и угрожает герою гибелью. Психоаналитические критики (например, Кемпбелл) видят здесь исконную связь любви и смерти, восходящую к эротическим элементам аграрных обрядов. Эта отдаленная связь не исключается, но мало что объясняет в сюжете романа. В более развитых романах происходит гармонизация за счет куртуазной или суфийской концепции любви, т.е. любовь сама вдохновляет героя на подвиги. Этот процесс гармонизации внешнего и внутреннего, рационального и иррационального (подсознательного) осуществляется во времени и через новые испытания, которые сравнимы с тем, что Юнг называет индивидуацией. Любовный объект во всех этих романах сопоставим с юнговской «Анима» без натяжки в отличие от сказочных царевен. Но подсознательная стихия здесь как раз сугубо индивидуальна, а не коллективна, именно она как бы сопоставима с «Самостью». Архетип инициации здесь преобразован в сложные рыцарские приключения и испытания верности как эпического, так и романтического начала. В «Персевале» Кретьена де Труа в сюжете используется архетип смены поколений. Персеваль должен заменить больного Короля-Рыбака в качестве хозяина чудесного замка Грааль, оба начала (эпическое и романическое) постепенно гармонизируются уже с точки зрения христианской любви.
Европейский рыцарский роман, используя традиционные мифы, охотно прибегает к разным традициям — христианской, античной, языческо-кельтской и т.д. Такое совмещение способствует выявлению архетипических сущностей. Такое же впечатление производит византийский роман при сравнении с более древним греческим романом эллинистического и римского времени.
Таким образом, картина оказывается более сложной по сравнению с юнгианскими представлениями, не говоря уже о фрейдистских, ибо пробуждение сугубо индивидуального сознания происходит постепенно, на протяжении определенной исторической дистанции и связано с некоторой мерой эмансипации личности. Поэтому рыцарский роман гораздо адекватнее юнговской картине, чем архаические мифы. С другой стороны, ученые, находящиеся под влиянием юнгианства (например, Кембелл в качестве автора книги «Маски бога» или упомянутая выше ритуально-мифологическая школа в литературоведении), не делают существенных различий между древней мифологией и мифологизирующим романом типа Джойса, а также авторами XX века, не прибегающими к традиционным сюжетам, но создающим свою личную мифологию, как это делает Кафка.
Между тем Джойс с помощью иронически преобразованных мифологических архетипических мотивов выражает не только пробуждение индивидуального сознания из коллективно-бессознательного, хотя мотив освобождения от социальных клише у него присутствует, но и трагедию отчуждения и покинутости индивида в XX веке. У Джойса мы находим отчетливую дисгармонию личности и социума, личности и Космоса. То же и у Кафки, но без использования традиционных мотивов. Вопреки мифологичности Джойса и квази-мифологичности Кафки, вопреки их игре архетипами достаточно очевидна противоположность смыслов в модернистском романе и в фольклорно-литературной архаике от подлинного мифа до рыцарского романа: например, в настоящих тотемических мифах и в волшебной сказке о чудесной жене — превращение в животное есть соединение со своим социумом, а в «превращении» Кафки — разрыв с семьей и полное отчуждение. В мифах, сказках и рыцарских романах герой в конечном счете удачно проходит инициацию и получает доступ к высшим социальным и космическим ценностям, а джойсовский Улисс (Блум) не может укорениться в семье и в городе, где он живет, так же как землемер К. у Кафки в романе «Замок». Герой Кафки как бы не может пройти инициацию, необходимую для вхождения в желанный социум, так и для героя «Процесса», другого знаменитого романа Кафки, остаются недоступными «врата закона». Герои Кафки в противоположность архаическим («архетипическим») персонажам отторгнуты и от общества, и от высших небесных сил, от которых зависит их судьба.