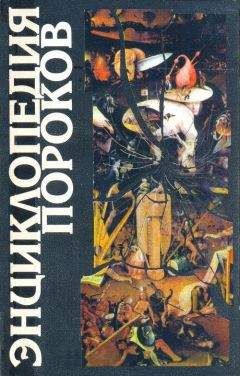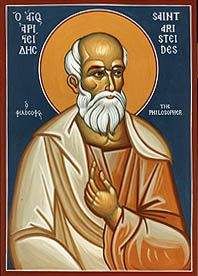В жизни мы видим самые прихотливые сочетания душевных свойств. Никогда не угадаешь, что таится в том или ином человеке, и даже мы сами для себя — отнюдь не исключение. Наш опыт познания людской и собственной порочности вовсе не подчинялся какой-то системе правил или последовательному порядку. В том, как перед нами раскрывались слабости, изъяны и недостатки человеческой натуры едва ли можно обнаружить строгую закономерность и систематичность. По крайней мере, такую, какая подходила бы ко всякому индивидуальному случаю. Поэтому и свое описание пороков я не выстраивал в четкую систему, предпочтя более естественное чувство их сочетаемости и контраста, взаимопритяжения и отталкивания, созвучия и диссонанса. Ведь и в жизни взаимообуславливаемость соседствует с неожиданностью, закономерный итог — со случайным шагом. И все-таки, несмотря на разнородность событий, повороты, смены ритма и целей, жизнь выглядит некоей целостностью, хотя ни объединяющего ее единого смысла, ни опрокидывающего все ее проявления абсурда однозначно не установить. Так и я надеюсь, что, не подчиненная одному правилу, последовательность помещенных в книге описаний сама собой образует целостность и связность общей картины. А кому не по душе обширное полотно, тот сможет удовлетворить свое чувство, останавливая взгляд на отдельных рассказах, пересыпая их, словно камешки гальки на ладони. И то, и другое равно приемлемо,
Т. Флешли
Есть качества души, как будто предназначенные для того, чтобы главенствовать над другими и направлять их. Такова алчность. В алчущем желание переступает все мыслимые пределы, нарушает ритм бытия, преобразует личность. Все качества человека исчезают, пропадают неведомо куда, и ты становишься равен одному побуждению, одной страсти, одному истовому и всеподчиняющему желанию, которое не назовешь больше ни желанием, ни стремлением, а только — вожделением, только необузданным влечением быть и обладать. Неодолимое влечение, столь сильное, что помрачает разум и заставляет забыть обо всем, кроме него самого; вожделение, превосходящее саму человеческую личность и возносящееся над ней, делающее ее своим слугой — вот что составляет сущность алчности. Кто окажется способным на нее? Слишком большой безоглядности требует она, чрезмерной отрешенности на волю своей страсти.
В нашем замусоренном, взбудораженном и смятенном мире едва ли осталось нечто, достойное алчности. Да и личности, способные взалкать, вряд ли сыщутся. Мы не алчем, мы совершаем выборы. У каждого в кармане пара игральных костей. Вот они застучали друг о друга, покатились, упали… Чет-нечет, больше-меньше. Никогда не будет меньше двух, и никогда — больше двенадцати. Единственный и тринадцатый, Бог и Иуда вычеркнуты из нашего мира, сколько бы мы ни молились первому, и сколько бы ни проклинали второго. В этом мире не найти надежды, и единственное чаяние — что душа еще когда-нибудь встрепенется. Тогда для нас станет возможным и внять Божественному откровению, и претерпеть соблазны Искусителя. А пока…
Мы совершаем тихие подлости; мы наглы, когда безнаказаны; мы покорны перед тем, что сильнее нас. Каждый наш жест на своем месте, и все они-умерены. Мы хороши и дурны одновременно. В нас всего по чуть-чуть. Во всех проявлениях своей натуры, хорошие они или скверные, мы стоим в четких рамках. Вся наша жизнь — посередине.
Даже когда неожиданный порыв вдруг отдает нас во власть чего-то необычайного, мы спешим вернуться назад — как маятник, вечно устремленный к тому, чтобы остановиться. Там, в этой середине, где мы проводим почти всю жизнь, нет ни добра, ни зла, ни доверия, ни предательства. Там все — "как будто…", там царит безмолвное проклятие.
И в блаженстве, и в грехе забывается, пропадает и растворяется человек. Добро спасает, а зло губит душу. Однако жизнь, в которой нет подлинного забытья, — спасительного или губительного — почти никогда не бывает не только счастливой, но и вообще прожитой. Жизнь не бывает бесстрастной. Независимо от того, чем поглощен человек, — гневом или любимым делом, нежностью или ненавистью, мнительностью или энтузиазмом — в любом виде забытья даруется отдохновение от непомерно скромной жизни. Страсть, которая поглощает человека, в которой он забывает о себе самом — и есть алчность. Возблагодарим ее за нескучность жизни.
Алчность противоположна тоске. Тоскующий все оставил, все стало для него потерей, и он сам — потеря для себя. Напротив, алчущий зажжен чистой страстью вожделения. Даже ничего не имея, он обладает всем, ибо безмерно его желание. Алкать — значит безудержно желать. Желать, не зная меры и смысла, не помня себя и действительности, не взирая на возможные последствия и неисполнимость желанного. Нет, "желать" — слишком спокойное и благопристойное слово. Оно не способно выразить накал алчности. Прочь его! "Возжелать" — вот верный тон. "Возжелавший" — значит "возжегшийся", воспламенившийся желанием, потерявшийся в нем, весь поглощенный одним стремлением, вне которого не остается ни одно движение души. Алчущим называют того, кто желает самозабвенно. А как иначе, скажите, можно желать? Разве неукоснительная умеренность и беспрестанное "укрощение порывов" могут составить смысл жизни?
Да, человек постоянно обуздывает себя. Но суровое насилие над собой он совершает с одной, в сущности, целью: отказавшись от незначительного, добиться главного. И этого, самого главного для себя, он, бесспорно, алчет. Если человек способен удержать себя во всем и поступать лишь так, как должно, то бог его — рассудительность. Именно ее он алчет. И рассудительность может быть страстью.
Увы! Нам не дано алкать. У каждого, даже самого свободного и раскованного есть то, что он не в силах забыть, что он не волен оставить. О какой же самозабвенности может идти речь! В миг, казалось бы, высшего торжества, всевластного восторга, буйства сил, порыв которых кажется неудержимым, в пьянящее мгновение вольного порыва, который вот-вот принесет самозабвение, освобождающее человека — в этот редкий миг вдруг раздастся тихий, чуть слышный скрежет, сперва незамеченный в шумной радости раскрепощенного духа. Но уже свершилось! Повернулось колесико маленького тайного механизма, невидимой машинки, которая неведомо как стала частью нашей живой плоти. И все. Тихим скрежетом, таким же смутным, как шуршание мыши в подполье, заявил о себе наш истинный властелин. Это странное механическое устройство, состоящее, может быть, всего лишь из пары зубчатых колес да одного противовеса, почти никогда не проявляет себя явно. Только в момент, когда мы вдруг возомним себя хозяевами себя же, когда отдадимся порыву, превосходящему нашу волю и наше разумение, тогда сработает нехитрый всемогущий механизм и даст всему "надлежащий ход". Какая уж тут алчность! Слишком многого она требует. Соблазнительно многое суля, она непомерно многое грозит отнять. Бог с ней, с алчностью. Современный человек предпочитает более безопасные чувства и пороки.
"Вот и хорошо", — скажет рассудительный. "Ведь алчущий теряет себя". Ты прав, о рассудительный! Не остается в алчущем ничего, кроме желания его. Но какое сокровище имеешь в себе, человек, что боишься потерять его? Не страсть ли — твое истинное достоинство, и не ей ли следуя, ты только и есть? Воля — закон, желание — властелин, и страсть — счастье. И потому — блаженны алчущие. И теряя, они приобретут!
Чванливые люди чрезвычайно представительны. Они подобны статуям — и столь же, в сущности, одиноки и безобидны; если только, упаси боже, не упадут Вам на голову.
Чванится обычно тот, кто мало чем имеет гордиться. Эта малая гордость, остановившаяся на одном предмете, застывшая на нем, топчущаяся на одном месте — и есть чванство.
В чванливости проявляется тупая радость человека, наконец-то обретшего то, чего он страстно желал. Все силы истрачены на достижение цели, последним натужным движением задача решена, и вот уже не остается никаких чувств, кроме обреченного довольства достигнутым. Обреченного, потому что обнаружилось: вот наш предел, он уже достигнут, на что-либо большее ни души, ни сил, ни желания не хватит. И тогда из стремления уйти от этого неприятного открытия, из желания забыться в чувстве горделивости, из попытки самодовольством утишить горечь вырастает чванство. Сама радость приобретения, которая светится в чванстве, весьма утомительная радость; ибо такой осчастливленный приобретением человек одновременно изнурен заботой показывать всем, сколь ценно его достояние.
Чванливый не может спокойно радоваться тому, что имеет; только зависть окружающих умиротворяет его душу. Эта пристрастная, неприятная потребность в других людях выдает одиночество чванливой натуры. Несмотря на внешнюю торжественную неприступность и отталкивающую заносчивость, чванливец как мало кто другой нуждается в окружающих. Чванливость — это всегда зрелище, а ведь зрелище без зрителей — бессмыслица. За эту трогательную, почти по-детски наивную потребность в других людях, простим чванливцу те неприятные ощущения и обиды, которыми он нас нередко — увы! — уязвляет. Теперь, я надеюсь, всем яснее видна его внутренняя драма, и потому будем к нему снисходительнее. Он нам не нужен; более того — неприятен, скучен и обременителен. Мы же ему необходимы. Так кто счастливее?