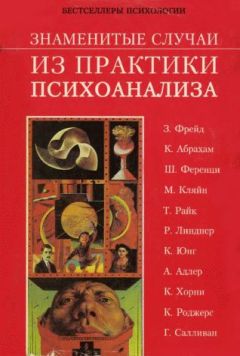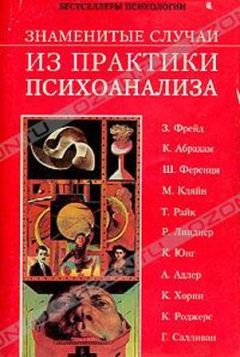— Фройляйн Катарина, если бы вы сейчас смогли припомнить, что у вас промелькнуло в голове в тот момент, когда с вами приключился первый приступ, и что вы подумали об этом, это вам поможет.
— Да, если бы я могла. Но я была так напугана, что все забыла.
(В переводе на язык нашего «предварительного общения» это означает: аффект создал гипноидное состояние, продукты которого остались в сознании «Я», лишенными каких-либо ассоциативных связей.)
— Скажите мне, Катарина, та голова, которая вам является тогда, когда вам трудно дышать, — голова Франциски, как вы увидели ее в тот момент?
— Нет, нет, ее голова не выглядела так страшно. Это голова мужчины.
— Тогда, может быть, это голова вашего дяди?
— Но я ведь даже не рассмотрела тогда его лица. В комнате было слишком темно, да и почему у него должно было быть такое страшное лицо?
— Вы правы. (Похоже, ниточка оборвалась. Но, может быть, продолжение рассказа поможет вновь обрести ее.) И что же случилось потом?
— Наверное, они услышали шум. Через некоторое время они вышли. Я все время чувствовала себя очень плохо. Я просто не могла не думать об этом. Через два дня было воскресенье, у меня было много дел, и я целый день работала, а в понедельник с утра у меня снова начала кружиться голова, меня тошнило, и я осталась в постели. Целых три дня у меня не проходила рвота.
Мы часто сравнивали симптоматологию истерии с истолкованием картины, которую мы начинаем понимать только тогда, когда находим некоторые моменты, относящиеся к двум языкам. В соответствии с такой азбукой рвота означает отравление. Поэтому я спросил ее:
— Мне кажется, что вы почувствовали отвращение, когда заглянули в окно, раз через три дня у вас началась рвота.
— Да, конечно, я чувствовала отвращение, — сказала она задумчиво. — Но к чему?
Может быть, вы видели какие-то обнаженные части тела. Как выглядели эти два человека в комнате?
— Было слишком темно, чтобы что-то увидеть, да и оба были одеты. Да, если бы я знала, что вызвало у меня отвращение...
Не знал этого и я, но просил ее продолжать сообщать мне все, что приходило ей в голову, в надежде, что она, наконец, упомянет о чем-то необходимом мне для объяснения этого случая.
Затем она сообщила мне, что, в конце концов, рассказала тете о своем открытии, потому что ей показалось, что за этим кроется какая-то тайна; потом последовали скандальные сцены между дядей и тетей, и детям довелось услышать такое, что открыло им глаза на некоторые вещи, о которых им лучше было бы не знать. Наконец, тетя решила уйти от дяди и Франциски, которая к тому времени уже была беременна, и, забрав с собой детей и племянницу, она уехала, чтобы принять на себя управление другой гостиницей. Но потом, к моему удивлению, Катарина вдруг отклонилась от этого хода событий и начала рассказывать о других, более старых происшествиях, которые произошли за два или три года до травматического события. Первый ряд происшествий содержал случаи попыток сексуального заигрывания с ней того же дяди, когда ей было четырнадцать лет. Она рассказала мне, как однажды зимой поехала с ним в деревню, где они остались на ночь в гостинице. Он находился в столовой, пил и играл в карты, а она, почувствовав себя уставшей, рано ушла в свою комнату, которую они занимали вместе. Сквозь сон она услышала, как он вошел, но затем уснула и проснулась вдруг от того, что «почувствовала его тело» в кровати рядом с собой. Она вскочила со словами: «Что вы делаете, дядя? Почему вы не в своей кровати?» Он попытался пошутить по этому поводу, сказав: «Успокойся, глупышка. Ты даже не знаешь, как это хорошо». «Мне от вас не нужно ничего такого хорошего. Вы не даете мне спать». Она стояла все это время у двери готовая к тому, чтобы убежать, пока он не перестал ее уговаривать и не уснул. Затем она вернулась в кровать и проспала до утра. Из ее поведения кажется, что она не усмотрела в этих действиях их сексуальной подкладки. Когда я спросил ее, знала ли она, чего хотел ее дядя, она ответила: «В то время нет». Она поняла это только позже. Она просто рассердилась, потому что ей помешали спать и потому что она никогда раньше не слышала о таких вещах.
Я должен был подробно рассказать об этом событии, так как это имело большое значение для всего, что должно было еще произойти. Потом она сообщила о других, более поздних переживаниях, как ей приходилось защищаться от приставаний дяди в гостинице, когда он бывал пьян и т.п. Но на мой вопрос, не приходилось ли ей испытывать подобную затрудненность дыхания в этих случаях, она уверенно ответила, что каждый раз появлялось давление в глазах и в груди, но не такое сильное, как во время ее открытия.
Сразу же вслед за этим она начала рассказывать о другом ряде событий, касающемся тех случаев, в которых ее внимание привлекло нечто, что происходило между дядей и Франциской. Она сообщила, как однажды вся семья провела целую ночь на стоге сена в одежде. Ее разбудил какой-то шум, и она видела, как дядя, который лежал между ней и Франциской, отодвинулся от нее, а Франциска тоже как-то изменила свое положение. Еще она рассказала, как в другой раз провела ночь в деревне N. Она и ее дядя в одной комнате, а Франциска — в другой. Ночью она проснулась и увидела длинную белую фигуру, державшуюся за дверную ручку:
— Господи, дядя, это вы? Что вы делаете у двери?
— Тише. Я просто ищу одну вещь.
— Но вы могли бы выйти через другую дверь.
— Я просто ошибся, — и т.д.
Я спросил, не было ли у нее каких-либо подозрений в то время.
— Нет, ни о чем таком я не думала. Просто мне это показалось странным, но я ничего не поняла. — Может быть, этот случай вызвал у нее тревогу? — Кажется, да. Но сейчас она не была в этом уверена.
После того как она закончила эти два рассказа, она остановилась. Казалось, ее вид переменился. Угрюмые, полные страдания черты стали более живыми, она выглядела жизнерадостной и явно была в более светлом и приподнятом настроении. Между тем на меня сошло понимание того, что с ней произошло; рассказанное ею в последнюю очередь и, по-видимому, без всякого плана прекрасно объясняет ее поведение в сцене, которая нанесла ей травму. В то время в ней жили как бы две группы переживаний, которые она не могла понять и относительно которых не могла прийти ни к какому выводу. При виде пары, выполняющей акт коитуса, она немедленно связала новое впечатление с этими двумя группами воспоминаний, придя, наконец, к пониманию их и в то же время их отвергая. За этим последовал короткий период переработки, «инкубации», после чего появились преобразованные симптомы — рвота как замена морального и физического отвращения. Тем самым загадка была разрешена. Не зрелище двоих вызвало у нее отвращение, но те воспоминания, которые оно пробудило в ней и все ей объяснило. Это могла быть только память о ночных приставаниях, когда она почувствовала тело своего дяди.
После этого признания я сказал ей:
—Теперь вы знаете, что вы подумали в тот момент, когда заглянули в комнату. Вы думали: «Теперь он делает с ней то, что он хотел сделать со мной в ту ночь и еще в другое время». Это вызвало у вас отвращение, потому что напомнило вам то чувство, которое вы испытали ночью по пробуждении, когда почувствовали его тело.
Она ответила:
— Да, скорее всего, что именно это и вызвало у меня отвращение и что об этом я подумала в тот момент.
— Ну, а теперь, когда вы уже взрослая девушка и все знаете...
— Теперь, конечно, я думаю так.
— Попробуйте теперь точно припомнить и сказать мне, что вы чувствовали в ту ночь при прикосновении его тела.
Но она не смогла дать никакого определенного ответа. Она только смущенно улыбалась, как если бы была убеждена в том, что мы уже добрались до конца истории и к этому уже нечего добавить. Я могу представить себе то тактильное ощущение, которое она позднее научилась описывать. И мне казалось, что ее черты выражали согласие с моим предположением. Но я не мог ни на шаг проникнуть глубже в ее переживания. Во всяком случае я был благодарен ей за то, что говорить с ней было намного легче, чем с пуритански настроенными дамами, с которыми мне доводилось сталкиваться во время моей практики в городе и для которых всякое naturalia непременно означало turpia[3].
Можно было бы считать случай объясненным, но откуда взялась галлюцинация головы, которая повторялась при каждом приступе и которая вызывала страх? Я спросил ее об этом. Она тут же ответила так, словно бы наш разговор расширил ее способность понимания:
— Да, теперь я знаю откуда. Это голова моего дяди. Теперь я узнаю ее. Позже, когда начались все эти ссоры, дядя страшно сердился на меня, хотя в этом не было никакого смысла. Он часто говорил, что это все случилось из-за меня. Если бы я не болтала, дело бы не дошло до развода. Он всегда угрожал, что что-нибудь сделает со мной, и когда он видел меня издалека, его лицо искажалось от гнева и он подбегал ко мне с поднятой рукой. Я всегда убегала от него и всегда мучалась тревогой, боясь, что он может схватить меня, когда я не буду его видеть. Так что лицо, которое я всегда видела, было его лицом, искаженным яростью.