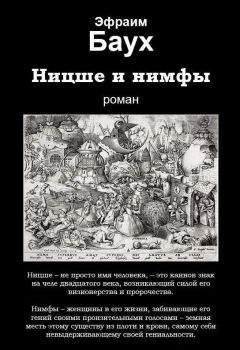– За это же и расплачивается, – произнесла Рита, царственно забрасывая ногу на ногу и сияя лайкровым блеском туго обтянутых бедер.
– Ты хочешь сказать, что он закладывает свою душу себе же самому? – ухмыльнулся Герман.
– А что, неплохой пассаж, – заметил мэтр, позволяя себе некоторую уважительную небрежность, – послушайте, как неплохо звучит: «Человек закладывает свою душу себе же самому и за это несет неизбежную расплату». Большинство людей, уверяю вас, так и поступает. Но мало кто из них получает знание.
– Знание от Бога, – вмешался верлибрист, почесывая бородку.
– Верно! – воскликнул Николай Павлович.
– А незнание? – эхом откликнулся Герман, ожидая некоторого замешательства и готовясь к очередному каскаду силлогизмов.
– Э-э, батенька, – мягко сказал Николай Павлович, – сейчас Матвей попадется на вашу удочку, и тут-то вы его и прихлопнете.
Матвей клюнул бородкой и с христианским выражением в глазах произнес:
– А вот и нет, Николай Павлович, а вот и не прихлопнет. Я знаю, что он готовит: ждет, чтобы я сказал, мол, незнание от дьявола. А тут он и выдаст: «А что, Матвей, согласись – знание, которым ты обладаешь, всего лишь крупица с той бездной незнания, в которой ты пребываешь или которая в тебе пребывает, что в сущности одно то же».
Все легко рассмеялись, а Рита грациозно при этом еще и откинулась на спинку кресла, отчего ее круто взмытое вверх бедро еще раз заманчиво блеснуло в бархатистых полутонах уютного кабинета.
– Да, Матвей, тебе дано читать в книге сердец, – откликнулся элегантный Герман.
– С кем поведешься, от того и наберешься, – пробурчал поэт – верлибрист, и его бородка взлетела победоносным клинышком.
– И тем не менее, – произнес Герман… но тут его фраза продолжилась музыкально изысканным телефонным тенором, просочившимся в гостиную из соседней комнаты.
– Прошу меня извинить, господа, – Николай Павлович воспарил над своим креслом и тихо уплыл в кабинет, шурша лодочками тапочек о мягкие половицы. Часы отозвались и звякнули двенадцать раз. Была полночь.
И я куда-то провалился. Я упал. Я пал. Я – убийца. И теперь в сновидениях мне будет являться призрак Лизочки с теплым шепотом «Убивец», и ее бледно-синюшные уста будут тянуться к моему горлу. А я, печальный и распятый на кресте собственной совести, измученный посещениями кошмарных видений, подвешу себя на подтяжках в каком-нибудь клозете и перед судорожной кончиной пущу последнюю струю оргазма. В штаны. Впрочем, это только возможный вариант, но не последний. Но что же мне делать теперь? Что? Вокруг все тот же ноябрь и та же ночь. И рядом совсем темнеют силуэты мрачных домов. И канал с ледяной водой. Я стою на набережной, облокотившись на чугунный парапет, и смотрю в черную воду… вот второй возможный вариант. А может быть, все варианты уже позади и теперь я в аду? Сартр сказал: «Ад – это другие». Но если я сейчас в аду, то я могу сказать, что ад – это точка абсолютнейшего, сконцентрированного одиночества посреди пустой вселенной. В данном случае этой пустой вселенной оказалась кадашевская набережная с ее ночным пронзающим ветром. Ветер забирается под мой плащ, в котором неизвестно как я оказался, и пытается забраться внутрь меня. А я не понимаю, холодно мне или нет. Я не содрогаюсь от промозглой сырости осеннего ночного часа, потому что я в аду. Только высохшие губы беспомощно шамкают, тоскуя по сигаретке. И в бездонном кармане рука пытается отыскать заветное курево, но едва лишь нащупывает помятую тряпочку – безвольно повисший и вялый пенис, потерявший всякую ориентацию в жизненном пространстве. Мой пенис повесили за его прошлые боевые заслуги. Или он сам повесился? От тоски и отчаянно безуспешных попыток найти идеал? Чье женское убежище скучает сейчас по нему? Ничье! Он одинок, как и я. Он – тоже в аду. Хотя он и не убийца. Но… вот он, то ли под иссякающей энергией моих пальцев, то ли почуяв что-то неладное, начал постепенно надуваться и теплеть. Чуть поодаль от меня шевельнулась смутная тень. Член указывал в ее направлении. Сделав несколько шагов вдоль набережной, я повернул к переулку, на острой окраине которого обозначилась фигура, чье равновесие не отличалось особой устойчивостью, но чей бюст напористо и агрессивно выступал из темноты. Над бюстом маячила голова, увенчанная вязаной спортивной шапочкой. А рот фосфоресцировал, поигрывая сигаретой. Я подошел почти вплотную, и, словно отделившийся от меня, мой голос шлепнулся к ее ногам:
– Мадам, закурить у вас не будет?
Она сверху вниз окатила меня водянисто-серыми своими очами и, вынув сигарету изо рта, передала ее мне. Я вцепился зубами в слюнявый фильтр и глубоко затянулся. Голос вернулся ко мне, и теперь я мог членораздельно что-то сказать. Это что-то не поражало оригинальностью, но зато это уже было кое-что. Чуть успокоившись, я сказал:
– Ночная прогулка, мадам?
– Водочки хочешь? – отозвалась она.
– Непрочь.
– Пошли.
Мы молча двинулись в сторону сгущающихся домов. Примерно через каждые три шага ее заносило в мою сторону, и при этом в штанах у меня вздрагивало. Завернув в тесный и вонючий дворик, мы наконец вошли в тускло освещаемый подъезд, тяжелое и сырое тепло которого сразу навалилось на меня.
Мы поднялись по трухлявой лестнице на последний, третий этаж, и она подошла к батарее, из-за которой и достала наполовину наполненную бутылку «Столичной» и стакан с помутневшими стенками. Порывшись в сумочке, мадам извлекла сверток, в котором оказался шоколадный батончик и несколько кружков печенья.
– Давай присядем, – сипло сказала она и тяжело навалилась крепким задом на жалобно пискнувшую ступеньку. Я присел рядом, касаясь ее ляжки, и вожделенно взглотнул.
Безмолвно, словно совершая ритуальное таинство, мы по очереди выпили и по кусочку отломили от шоколадки. Внутри у меня потеплело, и я начал ощущать, как медленно перемещаюсь из зоны ада в зону рая.
– Тебя как зовут? – забывая об убийстве, с тихой радостью спросил я свою ночную спутницу.
– Таня, – коротко икнув, ответила она.
– А ты здесь живешь, Танечка?
– Да, вон моя дверь, – Танечка ткнула рукой в направлении коричневой облупленной двери.
– А почему же мы не пройдем в твои покои?
– Сейчас нельзя.
– Почему же?
– Потому что сейчас у меня там ребенок и муж.
– А почему же ты не дома?
– Я всегда выхожу в это время прогуляться.
– И водочки попить на лестничной клетке?
– А в этом есть своя особая прелесть. Свой шарм, что ли, – задумчиво сказала она, и ее голос мягко ткнулся в занывший низ моего живота.
– И когда же ты возвращаешься домой?
– По-разному. Как когда.
– Бывает, что и под утро?
– Стараюсь до того, как муж проснется.
– А все-таки чем же ты занимаешься во время своих прогулок?
– Воздухом дышу.
– И легко дышится?
Она развернулась ко мне и взглядом уперлась в мою переносицу:
– Послушай, а ты всегда такой дотошный? А ты сам-то что делаешь в это время на улице?
– Все, Танечка, извини, не буду таким дотошным. Давай лучше еще водочки выпьем. А?
– Давай, наливай.
Мы выпили еще, и я прошептал ей в ухо:
– А можно я тебя поцелую?
– Зачем? – делаясь монотонной, спросила она.
– В знак расположения и дружбы.
– И что дальше?
Наш диалог вошел в стандартную, хорошо накатанную колею, когда в подобной ситуации женщины отвечают почти всегда одинаковыми словами – «зачем», «и что дальше», «а может не стоит», а мужчины получают заведомо известный результат, который их вполне удовлетворяет. Поэтому, не затрачивая усилия на дальнейшие словесные атаки, я сполз со ступеньки и, упершись уже порядком набухшим своим естеством в ее колено, навалился на нее и вцепился своими повлажневшими губами в сочную плоть ее выразительного рта.
Наш долгий и головокружительный, как затяжной прыжок, поцелуй, вдохновил нас на дерзкую причуду. Она встала со ступеньки и почти вплотную подошла к своей двери. Однако, вместо того, чтобы достать ключи, моя разгоряченная Танечка кивнула мне, подзывая к себе, и, пока я приближался к ней, она задрала юбку, спустила колготы и выставила навстречу мне свой голый, белесовато-поблескивающий зад.
Мы совершали соитие прямо возле ее двери, за тонкой перегородкой которой мирно посапывали ребенок и муж. Это было дико, и это было великолепно. Мы шуршали, деловито покряхтывая и ритмически раскачиваясь. Мы работали, как четкий и слаженный автомат. Наш паровоз летел вперед, и мы самозабвенно упивались этим полетом, на самой высоте которого я упруго выстрелил и истек своим застоявшимся и обильным соком.
Довольные и опустошенные, мы спустились допивать свою водку.
Я влил себе в глотку остатки прозрачной и мерзкой жидкости и тут же протрезвел – будто мгновенно в моей голове сработали некие потаенные рычаги и перевели мозг в иное состояние. Я почувствовал, как вновь переместился в зону ада. Сознание стало ясным, и череп начал заполняться мыслями, как водой прохудившаяся лодка. Тревога овладела мной с той же свободой, с какой я несколькими минутами раньше овладел Танечкой. Танечка, кажется, тоже протрезвела и задумалась о чем-то своем. Мы, падшие и грешные, сидели на одной ступени, и разница заключалась лишь в том, что эта прелюбодейка отправится в свою квартирку и окунется в теплое море пушистых одеял и домашних ласк, а я с этой ступеньки прямо пересяду на скамеечку подсудимых.