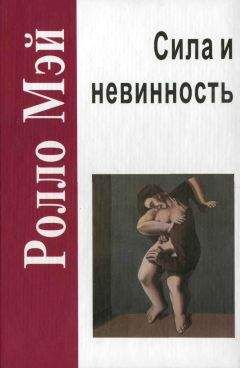Для понимания провозглашенной Ницше «воли к власти» следует помнить, что он не имел в виду «волю» и «власть» в современном значении, в смысле конкуренции, — скорее, он подразумевал самореализацию и самоактуализацию. Если мы перестанем воспринимать понятие «власть» исключительно в негативном контексте, нам будет проще согласиться с Ницше.
Я ни в коей мере не толкую «власть» как негативную категорию, применимую лишь к нашим недругам (например, ими движет жажда власти, а мы руководствуемся желанием добра, разумом и моралью); напротив, я использую это понятие для описания фундаментального аспекта процесса жизни. Силу и власть не следует идентифицировать с самой жизнью: в человеческом существовании есть немало того, что может быть связанным и обычно связано с силой, как например, любопытство, любовь, творчество, но что само по себе не следует с нею отождествлять. Но если пренебречь фактором силы, что зачастую и происходит в паше время, как реакция на разрушительные эффекты злоупотребления ею, мы упустим из виду ценности, чрезвычайно важные для нашего человеческого существования[1].
Значительную часть человеческой жизни можно рассматривать как конфликт между силой (то есть способностью эффективно влиять на других, обретать в отношениях с другими людьми чувство собственной значимости), с одной стороны, и бессилием — с другой. В этом конфликте нашим усилиям серьезно препятствует тот факт, что мы отторгаем и то и другое: первое — из-за негативной окраски, связанной с «жаждой власти», второе — из-за страха признать собственное бессилие.
Стоит лишь назвать бессилие его более понятным именем — беспомощностью или слабостью, как многие почувствуют, сколь сильно они им отягощены. «Действительно, ни одна из социальных эмоций не получила сегодня такого распространения, как убеждение в собственном бессилии, — пишет Артур Шлезингер. — Это ощущение того, что ты загнан, что тебя преследуют»[2]. Ганс Моргентау комментирует это с точки зрения политики: «Правление большинства, к которому веками стремилось человечество, привело к положению, при котором люди в гораздо большей степени бессильны и неспособны влиять на свое правительство, чем 150 лет назад»[3]. Маховик государства движется, не замечая нас с вами, и сегодня множеству людей приходится свыкаться с жизнью без привычной уверенности в том, что Америка самая могущественная страна мира, уверенности, с которой, сколь бы необоснованной она ни являлась, многие связывали чувство своего статуса.
Признать чувство собственного бессилия, того, что мы неспособны влиять на других, что мы значим мало, что ценности, которым наши родители посвящали свою жизнь, для нас утратили свою важность, что мы ощущаем себя, пользуясь словами У.Х.Одена[4], «безликими Другими», безразличными для окружающих нас людей и, тем самым никчемными для самих себя, — действительно, чрезвычайно сложно. Не припомню за последние четыре десятилетия[5] времени, когда так много говорилось бы о потенциале и возможностях человека, в то время как у самого человека было так мало уверенности в своей способности что-либо изменить психологически или политически. Все эти разговоры, по меньшей мере отчасти, представляют собой компенсаторный симптом, вызванный тревожащим нас осознанием утраты силы.
Так что неудивительно, что в наше время, когда мы располагаем реальной возможностью стереть друг друга с лица Земли, некоторые призывают прекратить эксперимент над человечеством. В своем президентском послании Американской психологической ассоциации 4 сентября 1971 г. д-р Кеннет Кларк утверждал, что «мы живем во время, слишком опасное для того, чтобы доверять настроению или мнению человеческого индивида… Мы более не способны контролировать власть предержащих, и поэтому должны прибегнуть к использованию успокоительных лекарственных средств для контроля наших руководителей»[6]. Мы можем с пониманием отнестись к этим словам отчаяния, особенно учитывая, что доктор Кларк не понаслышке знает жизнь Гарлема и бесправие чернокожих, что и подвигло его на такое предложение. Однако это не мешает нам также признать, что, в то время, как мы с тревогой узнаем об открытии новых веществ, якобы предназначенных для исцеления современного человека от его агрессивности и культивации в нем духа «сотрудничества», применение таких средств связано с деперсонализацией и потерей чувства личной ответственности. Подобная альтернатива на деле означала бы постепенный отказ от нашей человечности.
Другие психологи, отмечая, что мы не очень-то преуспели в контролировании самих себя, предлагают взять на себя контроль над нами с помощью оперантного обусловливания. Мы слышим о новых методах воспитания детей, предназначенных отучить их от проявлений агрессии, сделать их послушными и кроткими. Неужели, спрашиваю я себя с тревогой, все от отчаяния забыли роман Герберта Уэллса «Машина времени», где люди разделены на две группы: большинство одомашнено до тупой коровьей пассивности, их плоть мягка и нежна, и они служат пищей для группы сильнейших — «техников»?
Эти так называемые «теории сдавших нервов» происходят от верных по своей сути наблюдений, что применение силы причинило колоссальный вред современному миру. Предложения, содержащиеся в них, имеют двойную привлекательность, так как отражают реакцию на власть и одновременно сулят утопию. Они вероятно получат широкую поддержку среди людей, обеспокоенных бессилием и надеющихся, вопреки здравому смыслу, найти какую-то замену власти. Как говорит Дэвид Макклеллан: «Обеспокоенность американцев возможностью злоупотребления властью порой граничит с невротической навязчивостью»0. Однако важный вопрос заключается не в том, справедливы или нет эти теории, а скорее в том, не случится ли так, что пытаясь избавиться от агрессивных тенденций, мы тем самым откажемся от ценностей, жизненно важных для нашей человеческой природы, таких, как например: самоутверждение и уверенность в себе? И не усугубим ли мы тогда наше чувство беспомощности, подготовив тем самым почву для взрыва насилия, ни с чем не сравнимого по своим масштабам?
Ибо насилие коренится в бессилии и апатии. Да, агрессия так часто и регулярно перерастала в насилие, что общее отвращение и страх перед пей закономерны. Но из виду упускают то, что состояние бессилия, которое приводит к апатии и может быть обострено упомянутыми выше планами искоренения агрессии, и является источником насилия. Лишая людей силы, мы способствуем проявлениям агрессии, а не ее обузданию. Акты насилия в нашем обществе совершаются зачастую теми, кто стремится укрепить[7] свою самооценку, защитить свой собственный «образ себя», продемонстрировать свою значимость. Какой бы ошибочной или порочной ни была такая мотивация, все равно она является проявлением позитивных межличностных потребностей. Мы не можем игнорировать тот факт, что, независимо от того, сколько усилий может потребоваться для направления их в другое русло, сами по себе эти потребности конструктивны. Насилие происходит не от избытка силы, а от бессилия. Как однажды точно заметила Ханна Арендт, насилие есть выражение бессилия.
1. Бессилие развращает
Связь между бессилием и психозом привлекла мое внимание уже давно, когда я только начинал работать психотерапевтом. У страдающих психическими расстройствами людей психотерапевты могут наблюдать крайние формы поведения и переживаний, присущих всем людям. Подтверждались слова Эдгара Фриденберга: «Любая слабость способна развратить, а бессилие развращает абсолютно»[8].
Присцилла, молодая музыкантша, была одной из первых моих пациенток. Специалист, давший ей тест Роршаха, сказал, «что она одной ногой в шизофрении, а другой стоит на банановой кожуре». В ходе наших сеансов она пускалась в пространные сравнения музыки, производимой гудками поездов из Нью-арка и Ныо-Брунсвика. Я по большей части не имел ни малейшего представления, о чем она говорит, — и она это понимала. Но, похоже, она нуждалась во мне как в человеке, способном ее выслушать, стремящемся ее понять, независимо от того, насколько мне это удавалось. При этом ей было в определенной мере присуще чувство собственного достоинства и чувство юмора, что очень помогало мне в работе с ней.
Она была неспособна разозлиться ни на меня, ни на своих родителей, ни на кого-либо вообще. Ее самооценка была так зыбка и размыта, что казалась вовсе отсутствующей. Однажды молодой человек из хора, в котором она пела, пригласил ее сходить с ним на концерт. Она согласилась. Но йа следующий день, одолеваемая сомнениями, она позвонила ему, чтобы сказать: «Ты не обязан меня приглашать, если тебе не хочется». Ей не хватало уверенности в себе, чтобы просто представить, что кому-то может захотеться пригласить ее на концерт. Когда в возрасте восьми — девяти лет она играла в футбол с мальчиком чуть старше ее, он толкал ее так сильно, что ей становилось больно. Другой ребенок закричал бы на мальчика, полез бы в драку, заплакал или попросту отказался бы играть, — все это — хорошие ли, плохие, — способы справиться с ситуацией. Но Присцилла не умела воспользоваться ни одним из них; она лишь сидела на земле и смотрела па мальчика, думая, что ему не следовало толкать ее так сильно.