Действительно, рецепты в искусстве бессильны. Но нельзя отрицать значение использования художественного опыта прошлого. Писатель «изобретает» свой замысел с помощью не только «труда и таланта», но и опираясь при этом на классическое наследие прошлого. Опыт Сервантеса, если его надлежащим образом изучить, облегчит понимание того, «как сделан «Дон-Кихот», углубит культуру писателя и его мастерство. Изучение эстетики и техники писательского труда не может заменить собою таланта; однако при прочих равных условиях выше будет мастерство того художника, который овладел техникой своего искусства. Думать иначе — значило бы создавать непроходимую пропасть между теорией литературы и ее художественной практикой.
Такой цели не преследовал и Федин. Его резко полемический тон вполне объяснялся условиями полемики в 20-х годах с формалистами, которые считали, что в художественной литературе можно добиться всего умелой работой, низводили творчество до уровня профессиональной ловкости и сноровки.
Изучая процесс писательского труда, ученые располагают ценнейшим материалом черновых рукописей писателя, его записных книжек, многочисленных автопризнаний и пр.
В отличие от окончательной редакции произведения, черновая рукопись его обыкновенно содержит поправки и исправления, сделанные автором во время работы над текстом. По удачному выражению французского литературоведа А. Мазона, беловик является немым свидетелем творчества, тогда как черновая рукопись представляет собою его «говорящего свидетеля». В этом заключается громадная ценность черновиков писателя для науки. Испещренные зачеркиваниями и поправками рукописи Руссо, ужасные по своей неразборчивости «брульоны» Грибоедова, изобилующие условными знаками, переносами и перечеркиваниями автографы Л. Толстого равно свидетельствуют о громадном труде, вложенном этими писателями в свои произведения.
Рукописный фонд мировой литературы необъятно велик. Многие шедевры сохранились в целом ряде редакций, сопоставление которых позволяет восстановить весь ход творческой работы автора. Так, например, имеется девять редакций текста «Шагреневой кожи» Бальзака. «Ревизор» дошел до нас в пяти редакциях, «Иродиада» Флобера — в части ее, описывающей танец Саломеи, — в десяти редакциях, «Мать» Горького — в шести редакциях, начальная из которых отделена от завершающей двадцатилетием. Творческую историю произведений Л. Толстого можно изучать по чрезвычайно большому количеству вариантов и черновых редакций.
К черновым рукописям, ценность которых очевидна, примыкают многочисленные высказывания писателей о своей работе. В истории мировой литературы не было почти ни одного крупного писателя, который не стремился бы охарактеризовать процесс собственного творчества. Наиболее ценные признания этого рода делали Руссо, Гёте, Шиллер, Флобер, Доде, Золя, Ибсен, из русских писателей — Гоголь, Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Горький, Маяковский. Известны многочисленные рассказы писателей о том, как ими создавались те или иные произведения. Припомним рассказ Эдгара По о его балладе «Ворон», набросок Дидро «Sur ma manière de travailler»[5], заметку Стендаля «Искусство сочинять роман», «Историю моих книг» А. Доде, которую он называл «самым достойным и оригинальным родом записок писателя», статью Горького «Как я учился писать», статью Маяковского «Как делать стихи», интереснейшую статью Твардовского «Как был написан «Василий Теркин» и многое другое.
Большое значение для исследователя представляет и такой род признаний о себе писателя, как художественная автобиография. Лучшими образцами последней являются «Поэзия и правда» Гёте, «Былое и думы» Герцена, «История моего современника» Короленко, автобиографическая трилогия Горького. И хотя высказывания писателей облечены здесь в беллетристическую форму, они ничего не теряют в правдивости. Перед читателями этих книг встает мастерски воссозданная картина духовного роста писателя, углубленная история его ранних замыслов и первых шагов в литературе. К произведениям этого типа в известной мере примыкает «Авторская исповедь» Гоголя, отличающаяся от указанных выше произведений страстным стремлением оправдаться перед читателями, исповедаться им в своих творческих неудачах, обнаружить истоки постигшей его катастрофы.
Особое место среди этих материалов занимает дневник писателя, этот наиболее задушевный и интимный род его записей. Такого рода дневник часто ложился в основу художественной автобиографии писателя.
Последовательность эта имела место, например, в практике Гёте, позднейшие записки которого создавались на основании его дневников. То же соотношение характеризовало дневники Короленко и не оконченную им «Историю моего современника». Значение дневников для выяснения разнообразных этапов писательского труда не подлежит сомнению. Так, например, дневники Гёте содержат в себе немало сведений о его работе над романом «Избирательное сродство». Стендаль, по его собственному признанию, от времени до времени перечитывал дневники и делал на них пометки, чтобы затем использовать их в художественных произведениях. Л. Толстой еще в юности решил писать все в дневник, который должен был «составить для него литературу». Дневники его сыграли немаловажную роль в создании отдельных произведений, например повести «Казаки», не говоря уже о их ценности для выработки художественного метода Толстого.
Значение дневников бесспорно и для работы советских писателей. То, что Вишневский рано приучил себя к ведению дневников, оказало громадную помощь ему как писателю. Размышляя над только что задуманным им «Чапаевым», Фурманов «кинулся к собранному ранее материалу, в первую очередь к дневникам» периода гражданской войны: «Да, черт возьми! Это же богатейший материал. Только надо суметь его скомпоновать...» В писательском дневнике Твардовского отразилась картина трудностей написания «Василия Теркина»: «Некоторые дневниковые записи... рассказывают о поисках, сомнениях, решениях и перерешениях в работе, может быть, даже лучше, чем если я говорю об этой работе с точки зрения своего сегодняшнего отношения к ней».
К дневникам непосредственно примыкают письма писателя, содержащие в себе те же важные творческие признания, но обращенные уже не к читателю, а к другу или творчески близкому литератору. Правда, не каждого писателя. Скрытный Лермонтов был чрезвычайно скуп на признания творческого порядка. О написанном им стихотворении «Парус» поэт сообщал в одной мало что поясняющей фразе: «Вот еще стихи, которые сочинил я на берегу моря». Тем рельефнее вырисовывается на фоне таких исключений творческая исповедь писателя, запечатленная в его письмах. Возьмем, например, письма Герцена к жене и ближайшему другу Огареву, которые он справедливо расценивал как документы большой исторической важности. «Сатин говорит, что ты, кажется, сжег мои письма. Это скверно, лучше бы сжег дюйм мизинца на левой руке у меня. Наши письма — важнейший документ нашего развития и моей жизни; в них, время от времени, отражаются все модуляции, отзываются все впечатления на душу. Ну, как же можно жечь такие вещи?»
Ценность переписки Герцена с близкими ему людьми заключается не только в том, что в них с исключительной полнотой отражена его многогранная личность («Мои письма — я»), — эти письма являются также неотъемлемой частью творческой лаборатории писателя. В повести «Елена», предупреждает Герцен Наталью Александровну, «...ты найдешь толпу выражений из наших писем». Письма Герцена в какой-то мере подготовляют собою «Былое и думы». Явления подобного рода не единичны. Написанные Гончаровым во время его кругосветного путешествия письма к друзьям — в первую очередь к семье Майковых — ложатся, с некоторыми изменениями, в основу текста «Фрегата «Паллада». В письме Тургенева к Полине Виардо еще в 40-е годы прозвучала та тема «России-сфинкса», которая тремя десятилетиями позднее раскрылась в его стихотворении в прозе. Флобер откровеннее других писателей признал учебно-экспериментальную функцию некоторых своих писем, которые он писал затем, чтобы «выработать серьезный стиль».
Особой ценностью обладает переписка писателей, изобилующая множеством творческих взаимопризнаний. Первое место в этом отношении занимает переписка Гёте и Шиллера, продолжавшаяся около одиннадцати лет и чрезвычайно много давшая обоим писателям. «Ваши письма для нас — богато нагруженные корабли...» — говорил Шиллер Гёте. Столь же содержательны ответные послания Шиллера для самого Гёте. В русской литературе очень интересна переписка Горького и Чехова. Перечитывая их письма, мы видим, как ценны они для характеристики творческой манеры обоих писателей. Но дело не только в этом — письма Чехова и Горького ставят важнейшие проблемы развития русского реализма.
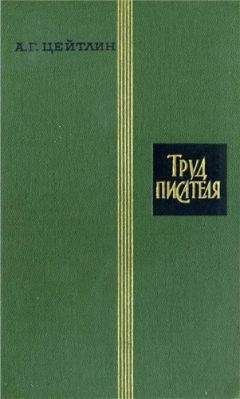
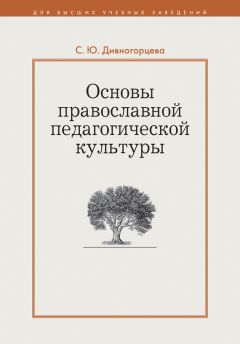
![Вадим Георгиенко - Навстречу людям. Шаг за шагом[практические механизмы участия общественности в процессах принятия решений на местном уровне]](https://cdn.my-library.info/books/167548/167548.jpg)


