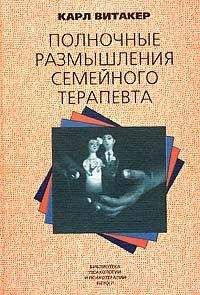За три года работы с трудными подростками и отчасти — преподавания в медицинском институте я начал открывать, что такое жесткость. Нежность была мне свойственна, а вот к жесткому обращению с людьми прийти было непросто. Правда, я умел быть жестким с животными на ферме. К счастью, рождение второй дочери дало мне тепло и близость, необходимые для того, чтобы прощать себя, когда приходилось быть слишком профессиональным или твердым в работе с подростками.
Все очевиднее становилось, что студентов-медиков можно поделить на тех, кто не умеет быть нежными, и тех, кто не умеет быть жесткими. Трудно помочь и тем, и другим найти доступ к недостающему качеству. Не понимая в то время, как это связано с моими собственными фантазиями, я открыл радость в работе с преступниками. Их мощь! Мне приходит в голову образ: кадиллак с испорченным рулем. Много силы и мало контроля. (По контрасту, невротиков, которых мы встречали в клинике, можно было сравнить со стареньким фордом, который еле тащится на своих двух цилиндрах.) Оглядываясь на прошлое, я думаю о том, сколько этих подростков угоняло машины просто ради того, чтобы, вернувшись, рассказать об этом мне. У меня никогда не хватало отваги поступить таким образом, и я уверен, что мой энтузиазм по поводу их приключений заставлял ребят снова повторять то же самое для папы с его вытесненным желанием преступить закон, еще до своего первого попадания в наше заведение.
Военные годы: тайна и конспирация Окриджа
В ужасные дни второй мировой войны мы переехали в Окридж в штате Теннеси. Каждый вечер, слушая передачи о бомбежках Лондона, мы гадали, поведет ли Гитлер, разрушающий Англию и уже завоевавший Польшу, Францию, Голландию и Бельгию, свои войска завоевывать Соединенные Штаты. Таинственные визиты в Окридж напоминали Голливудские фильмы: полет на самолете с зашторенными окнами, чтобы никто не выглядывал, потом поездка на машине в темноте, ворота, освещенные прожекторами, вооруженные охранники, — все казалось жутковатым. Кого ни спросишь, тебе убедительно отвечают что-то вроде: «Нет, мы не знаем, чем мы тут занимаемся, но это нечто важное, и необходимо охранять наши секреты». Меня направил сюда детский психиатр, знакомый с моим шефом в Луисвилле. Я знал только, что тут жили около 75 тысяч человек в окрестных домах на нескольких сотнях акров земли и что у них существовало восемь различных служб безопасности. Из-за высокого уровня конспирации нельзя было позвонить даже в соседний дом без специального разрешения.
Мюриэл и я с детьми прожили здесь два года. Это было закрытое общество, со своей школой и больницей. И когда мы позже узнали, что тут производили плутоний для атомной бомбы, то были поражены, хотя могли бы и догадаться. Мой шеф, например, уезжал на испытания в другое место, а вернувшись, рассказал, что ночью слышал сильный взрыв, но не знает, что это было, потому что спал. Тень Гитлера нависала над нами, поэтому было несложно пробудить в нас патриотизм, несмотря даже на то, что мы не знали, что же мы тут делаем.
Несмотря на атмосферу шпиономании, мораль в Окридже была на астрономически высоком уровне. (Часть нашей работы как раз и заключалась в том, чтобы наблюдать и докладывать о моральной обстановке.) Нас охватывало чувство целеустремленности, хотя мы и не знали ничего о цели нашей работы. Там был госпиталь на 300 мест и 150 человек персонала, работающих день и ночь. Каждый из семи психиатров принимал по 20 пациентов в день (получасовое интервью) и наблюдал за десятью госпитализированными с острыми нарушениями. Тут-то я и учился быть жестким. Приходилось сражаться с ветеранами войны, у которых появлялись острые психотические приступы. Это было страшно.
Я совершил важное открытие в области психопатологии и психотерапии, и произошло это довольно-таки необычным путем. Ко мне должен был прийти Генри, госпитализированный по поводу мании. А я только что закончил работать с пятилетним мальчиком. С ним я проводил игровую терапию, используя бутылочку с теплым молоком в качестве средства для регрессии. Бутылочка осталась на столе. Маниакальный пациент вошел, уставился на бутылочку и вдруг начал ее по-младенчески сосать. Разумеется, на другой день теплое молоко для него было приготовлено заранее. За двенадцать дней такого интенсивного кормления он полностью вышел из состояния своей мании, а я снова решил, что открыл секрет психотерапии! И последующие три-четыре года я так кормил почти всех своих пациентов: мужчин, женщин, детей, невротиков, психотиков, психопатов и алкоголиков с большой пользой для них, если не сказать — с успехом. Лишь потом я вдруг осознал, что подобная техника была нужна не столько пациентам, сколько самому терапевту. Я учился материнству, а когда утвердился в этом качестве, можно было перестать пользоваться самой техникой.
Профессиональное супружество
В Окридже я впервые понял: как необходима жена для личной жизни, так нужен партнер для жизни профессиональной. Заботиться о пациентах, как и о детях, крайне тяжело, когда это бремя лежит только на одном родителе. Джон Воркентин помогал мне, но не всегда был под рукой, когда я хотел его видеть. Мне живо запомнился день, когда впервые на прием пришел один ветеран. Я вдруг испугался: мне показалось, что он прямо сейчас возьмет и убьет меня. Я извинился и пошел в кабинет Джона, прервал его работу с пациентом и потащил ко мне, по дороге рассказывая о своих страхах. Он, лишь кинув взгляд на пациента, произнес: «Знаете, я могу вас понять. Бывает, мне тоже хочется убить Карла». И вышел.
Даже сегодня мне трудно оценить, как сильно поведение Джона помогало мне той парадоксальностью, которую намного лучше понимают в наши дни. Это заставило меня организовывать день так, чтобы мы могли работать с пациентами вместе с ним и, делясь нашими переживаниями, вместе думать о психотерапии. Позднее я открыл еще одну вещь, возможно, более ценную: ко-терапия дает свободную возможность отойти в сторону и понаблюдать, что происходит, позволяет погрузиться в события, не боясь, что что-то случится — с тобою и с пациентом. Я тогда еще не понимал третьего ценного качества ко-терапии: такой союз учит выражать словами эмоциональные переживания, приобретающие объективность, когда ты делишься ими с другими.
Как раньше я выбрал сверстников в колледже, чтобы они стали моими ко-терапевтами, так и сейчас я нашел профессионального сверстника. Мы с доктором Воркентином очень сблизились, обсуждая нашу работу. Общие заботы о детях (пациентах) соединяли нас с ним в некоем профессиональном браке.
Жизнь в Окридже давала опыт роста нашей семье. Первый раз мы с Мюриэл ощущали себя взрослыми людьми с двумя детьми, без родительской опеки, находились в окружении таинственного мира прослушивающихся телефонов, семи видов охраны, ЦРУ, ФБР, секретных служб, телохранителей, полиции и еще неведомо чего. К самой психологической и эмоциональной атмосфере нам нужно было еще приспособиться.
Когда окончилась война, перед нашей семьей встал большой вопрос: «Куда податься теперь?» Надо было заново устраивать жизнь. Произошел мой первый разрыв со сверстником. Покидая Луисвилль, я как бы прощался со своими четвертыми родителями. А прощание с шефом из Окриджа, который собирался возглавить частную, на семь человек, клинику в Миннеаполисе, было решением иного рода. Понадобилась моя жесткость, чтобы сказать ему, что я не хочу становиться его подчиненным. Я был бы рад поехать в Миннеаполис с ним, чтобы на равных управлять клиникой, хотя ему было пятьдесят, а мне тридцать три. Но я не хотел бы стать просто одним из персонала. Так мы и расстались, я тосковал, а затем один (с семьей) поехал в Атланту.
Переезд в Атланту: терапия и студенты
В Атланту меня пригласил декан медицинского факультета (врач гуманистического направления) университета в Эмори — с тем, чтобы после года работы я возглавил там психиатрическое отделение. Меня брали потому, что я был молод, доступен, а также потому, что показал им кинофильм про вышеупомянутую технику кормления из бутылочки. Затем прежний декан сменился, раньше, чем я туда переехал, а новый также нанял меня. И хотя он был слишком мягким человеком и никудышним администратором, я продолжал настаивать на своих требованиях: буду преподавать студентам лишь при условии, что каждый из них будет два года участвовать в групповой терапии. А на втором году, кроме терапии, те же студенты начнут заниматься с пациентом, но под наблюдением другого инструктора. Декан оказался в трудном положении — психиатров не хватало — и согласился, а я целых десять лет продолжал вести ту же политику: каждый студент-медик обязательно проходит терапию.
На самом деле институт пошел мне навстречу. Раньше там не было курса психиатрии, и резкий переход к ситуации, когда каждый студент 400 часов посвящает психиатрической практике, требовал больших изменений. И тем не менее, сотрудники приняли эту перемену как совершившийся факт.