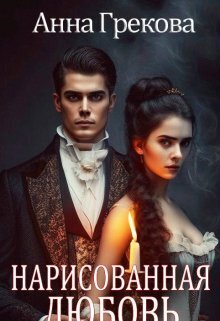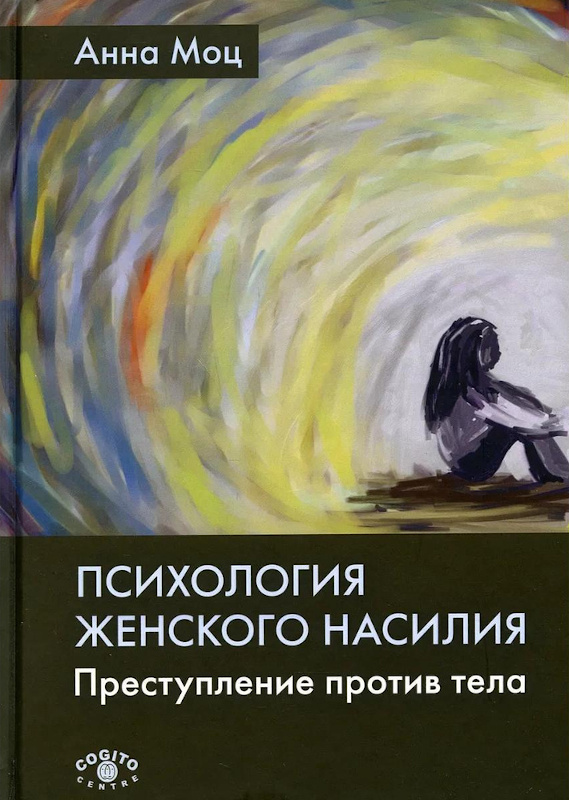ограничения программ, сфокусированных на преступном поведении, особенно в отношении девушек, чьи потребности не принимались в расчет. Поэтому я пробовала другие подходы. Примечательно, что в 1991 году я прибегала к судебной психотерапии, которая в то время казалась методом радикальным, но именно она и определила мою карьеру. В судебной психотерапии считается, что преступное поведение — это симптом скрытого конфликта или ряда эмоций, и задача психотерапевта — помочь пациенту сначала заметить их, а со временем осознать и взять под контроль: перевести действие в размышление и в итоге развить самосознание. Вместо того чтобы просто положить конец такому поведению или изменить его, человек учится понимать его значение и истоки. В отличие от поведенческого метода в судебной психологии большое значение придается отношениям между терапевтом и пациентом: это призма, позволяющая выявить шаблон привязанности пациента и понять страхи, мотивы и опыт, которые привели его к этому состоянию. Здесь нет установленной программы действий. Вместо этого есть стремление создать безопасную среду, в которой человек сможет поделиться снами, воспоминаниями, страхами и фантазиями — проявлениями бессознательных потребностей, которые подталкивают к совершению преступлений. Далее их можно изучить и интерпретировать.
Параллельно с работой в отделении я записалась на курс по судебной психотерапии в клинике Портман в Лондоне. Его разработала доктор Эстела Уэллдон, под чьим наставничеством я познакомилась с совершенно иным способом работы с людьми, которых в лондонской лечебнице называли пациентами-правонарушителями. При использовании этого способа терапевт не просто наблюдает за поведением пациента, а старается понять и проанализировать смысл его поступков: что это говорит о прошлом человека, его жизненном опыте, сознательных и бессознательных мыслях и фантазиях. Именно этот подход я хотела привнести в закрытое отделение, где, как мне казалось, жизнь пациенток оставляет желать лучшего. Во-первых, самый очевидный пример: в смешанных палатах женщины, которые подвергались сексуализированному и физическому насилию, жили рядом с мужчинами, часть из которых совершали преступления именно такого характера. Сейчас подобные условия представить невозможно, но тогда это было травмирующей реальностью. Во-вторых, хотя палата, в которой я работала, была задумана как модифицированное терапевтическое сообщество, это было так лишь на время сессии. Казалось, что совместное проживание мужчин и женщин подрывало клиническую целостность и чувство безопасности. В-третьих, конкретные истории утрат, травм и насилия, с которыми сталкивались женщины, не учитывались и особых условий для пациенток не создавалось.
Можно сказать, что Мэри угодила в разлом этой несовершенной системы: она жила практически инкогнито, не участвовала в групповых сессиях и не получала помощь от медперсонала. Лишь посредством самоповреждения — порезов и ожогов — она изредка запрашивала внимание и получала его. Обычно это происходило, когда ее собирались переводить в учреждение более открытого типа, где увеличивается личная независимость пациента. Такое поведение — форма сознательного или бессознательного саботажа, который поставил ее в каком-то смысле в подвешенное положение: ее нельзя было назвать ни по-настоящему больной, ни по-настоящему здоровой, из-за чего обстоятельства жизни оставались все теми же. Мы начали работать, когда ей было уже около 50, а за плечами оказалось более двух десятилетий лечения с перерывами, по большей части неэффективного. В рамках подхода с «ориентацией на преступные нарушения» в основном рассматривалась ее склонность к поджогам, а в дополнение к этому психиатры выписывали лекарства, чтобы приглушить депрессию. Кроме того, Мэри жила в обстановке, где курение считалось нормой — как для пациентов, так и для персонала. Нередко медсестра, чтобы успокоить разозленного или встревоженного пациента, выходила вместе с ним покурить. Получается, Мэри — поджигательница, которая продолжала наносить себе вред через ожоги, — постоянно была окружена сигаретами, спичками и зажигалками.
Мое предложение опробовать на Мэри судебную психотерапию было принято. По большей части не из-за веры в мои силы, а из-за несколько беспечного подхода, который главенствовал в больнице: детали не важны до тех пор, «пока работа выполняется». Мой начальник был рад поручить пациенток женщине-психологу, поскольку сам он не уделял им должного внимания, в чем честно признавался. Отчасти он объяснял это тем, что в присутствии мужчины пациенткам может быть некомфортно. Я же, в свою очередь, ухватилась за возможность применить на практике тот курс лечения, который, на мой взгляд, в худшем случае никак не навредил бы уже вдоволь настрадавшейся женщине. В лучшем случае я смогла бы помочь Мэри понять скрытое значение замкнутого круга, в который она угодила, и дать надежду на то, что из него есть выход.
На первых сессиях меня поразило, насколько внешний вид женщины отражал атмосферу безразличия и отсутствия надежды. Ее движения были медленными, а голос — мягким. Часто она приходила на наши встречи с немытой головой и в грязной одежде. Ее манера держать себя была невыразительной, блеклой: казалось, что пламя личности и жизненной энергии кто-то потушил — передо мной был человек, угодивший в систему, в которой сам решил остаться навсегда.
Самоповреждение Мэри — явный показатель ярости и внутренней потребности в заботе, которые прятались за безразличным фасадом. Ее не слушали, травму не замечали, а нужды игнорировали. Все это приводило к тому, что она наносила себе ожоги и устраивала небольшие пожары, которые держала под контролем. Таким способом она привлекала внимание медперсонала. Действия Мэри показывали: эмоции, которые на пике привели к тому самому преступлению, никуда не делись. Лечение пациентки было нерегулярным и ограниченным, и к этим эмоциям не обращались должным образом. На одной из первых сессий Мэри заметила, что толком не знает, что из себя представляет терапия и как она может ей помочь. Меня сильно удивили ее слова.
Конкретная цель лечения Мэри — работа с депрессией и склонностью к самоповреждению. Я надеялась, что с помощью судебной психотерапии мы прольем свет на проблему селфхарма — что ею движет и какое сознательное и бессознательное значение есть у ее действий. Со временем мне хотелось найти причины, по которым она стремилась устраивать пожары, и снизить риск поджогов в будущем. Для начала следует сказать, что прогресс был медленным. Мэри жила в больницах закрытого типа примерно столько же, сколько я — на белом свете. Поэтому я понимала, что внутренние барьеры окажутся прочными: защитные механизмы, выстроенные против невыносимого существования и прошлого, с которым она была не готова столкнуться. В первые часы наших зарождающихся отношений пациента и терапевта в воздухе подолгу висело молчание: Мэри смотрела в пол, а затем поднимала взгляд, будто проверяя, не ускользнула ли я за дверь незаметно для нее.
Сессии давались Мэри тяжело, но нельзя сказать, что она не хотела рассказывать о детстве и юности. Один из долгих периодов тишины