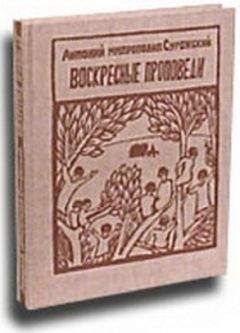Но, с другой стороны, при широком взгляде на человечество феномен ревности обнаруживает такую изменчивость, такую зависимость от социально-культурных влияний, что всякие поспешные биологические выводы останавливаются. Наши предки ревновали не так, как мы. Есть племена, совсем не знающие ревности. Мужской перевес в ревности легко объяснить социальной организацией взаимоотношений полов, тем, что женщина веками рассматривалась как собственность, а за мужчиной оставлялась относительная свобода.
Это огромный неисследованный массив. Вероятно, нет человека, который бы совсем не знал этого чувства. У Достоевского в «Братьях Карамазовых» есть прекрасные строчки о психологии ревности — о том, что ревнивцы скорее других прощают, но никогда не успокаиваются, что люди с самыми «высокими сердцами» падают наиболее низко в грязь подозрительности и выслеживания. И о том, что Отелло, как заметил Пушкин, вовсе не ревнив — он доверчив, и трагедия в том, что погиб его идеал. Конечно, у человека и ревность «социализована», и она, как вся наша психическая жизнь, привязана к «я для других».
И вот что, вероятно, самое главное: ревность взрослого, зрелая ревность, всегда обнаруживает связь с чувством неполноценности — физической, интеллектуальной, социальной или какой-либо другой. Определенно можно сказать: человек не станет ревновать к человеку, которого он по всем статьям считает ниже себя. Соперник низшего ранга, если только человек действительно считает его таковым, не соперник. Люди с устойчиво высокой самооценкой ревнивцами не бывают.
Да, этого сколько угодно: петухи и павианы среди людей; ревнуют слепо, глупо, зверино, ко всем без разбора, и в тем большей мере, чем больше позволяют неверности самим себе. И все же ревность человека ушла далеко от сексуальной оборонительной стратегии животного.
Человеческая ревность есть страх сравнения. Ее непроизвольная стратегия: не допустить, чтобы другой был оценен выше, дал больше удовлетворения. Исключить предпочтение, не уступить именно высшему рангу! В этом любовная ревность, по существу, не отличается от других видов конкурентных стратегий, например соперничества честолюбий.
Основные движущие механизмы и здесь стремятся уйти в подсознание. Ревность, осознанная абсолютно ясно, до корней, обычно теряет свою силу. Человек редко признается себе в том, что боится превосходства, что чувствует себя потенциально ниже, слабее соперника. Зато какой бальзам для его души — обнаружить у того унижающие недостатки!
В этой ревнивой стратегии, конечно же, коренится животно-эгоистическое начало, это принуждение, диктат над свободным выбором любимого существа.
Ревность враждебна объективности, она есть, по существу, импульс к насилию и лжи: не допуская сравнения, она стремится сохранить у другого выгодную для себя картину соотношения, вернее, не допустить никакой: я есмь единственное, неповторимое божество, и все тут.
…Это прекрасно разработано у Чернышевского в «Что делать?»: высшая альтруистическая любовь отвергает ревность. Вернее, не отвергает (зто не то слово, в нем лицемерие), а просто не знает, перестает звать. По триаде диалектики она снова приходит к уступке высшему рангу — тому, кого предпочли, — но теперь уже добровольной. Такая уступка не только уравнивает ранги сторон, но ставит уступающего морально выше. Это изысканная победа над победившим. Стратегия соперничества уступает стратегии благородства. Быть человеком — это значит по крайней мере перестать быть петухом.
МЫ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
Наверное, как всякий москвич, я и люблю Москву и проклинаю ее. Я рвусь из нее, задыхаясь, и с каким-то непонятным восторгом стремлюсь обратно. Проклинаю и люблю — за многоликость и единство, за сверхъестественную уютность огромности. За достоинство и суетность. За внезапную ночную опустелость после кромешной дневной сутолоки. За нервный сумрак и пропитанный гарью шальной воздух. За уголки с горьким запахом воспоминаний.
Но это, прошу прощения, лирика, а есть еще и профессиональный подход. Кроме всего прочего, Москва — это огромный муравейник людских встреч. Настоящая суровость большого города, все сгущено и остро. Масса поводов подумать о психологии.
Представьте себе, товарищ москвич: в один прекрасный день, в часы «пик», когда все идут с работы, все встречные пешеходы на улице Кирова, все, как один, начинают с вами здороваться. Полагаю, что уже через пять минут вы добровольно сдадите себя в руки «Скорой психиатрической помощи».
А в деревне, в настоящей нормальной деревне здороваются и знакомые и незнакомые. Обычай поначалу приятно шокирует новоприбывших горожан. Целесообразность его, однако, вполне прозрачна: приход незнакомца — крупное событие местного значения, которое будет широко обсуждаться и, может быть, даже войдет в историю в виде устных преданий бабушек и дедушек. Контакты в деревне редки, но зато основательны или хотя бы потенциально таковы, и все на виду. Кто не здоровается, пусть пеняет на себя: тем самым он сразу объявляет себя чужаком. Тут здороваться — дальний расчет, придуманный кем-то мудрым.
Нас много, мы спешим, мы видим друг друга на какие-то мгновения, чтобы больше никогда не увидеть, потому что повторность встречи среди восьми миллионов ничтожна. Мы не можем позволить себе здороваться, даже если бы захотели. Мы не улыбаемся друг другу, ибо нас слишком много изо дня в день, мы не можем ничего изменить — мы в большом городе.
Но мы все же общаемся. Да, общаемся.
В транспорте, в очереди, в общественных местах люди сидят и стоят рядом друг с другом совсем близко… Молчат… Взаимоприсутствие уже общение, хотя бы оно всеми силами сводилось к взаимоотсутствию. Нормальному человеку приходится преодолевать внутреннее неудобство от того, что пространственная эта близость не должна и не может получить никакого продолжения. И ему остается только замкнуться. Даже если человек не занят разглядыванием соседей, а погружен в свои мысли, книгу или газету, он подсознательно фиксирует присутствие других людей и держится соответственно.
Лишь редкие разговорчивые натуры да подвыпившие нарушают эту атмосферу. Но вокруг них обычно довольно быстро образуется вакуум. (В одесских трамваях, правда, совсем не то: там идет живое обсуждение спортивных и политических новостей.)
Зато когда контакт ситуационно оправдан, например кто-то спрашивает, как проехать, вы испытываете род облегчения. Впрочем, кто как…
Я не знаю, есть ли специфический «московский характер», хотя люди из других мест уверяют, что да. Мне кажется, теперь в Москве слишком много разных людей, чтобы можно было составить один портрет. Одни считают москвичей нелюбезными, другие удивительно отзывчивыми… Это когда как.
По-моему, москвич экстравагантно сдержан, раздражителен, но доброжелателен, ко всему привычен, но готов всему удивляться. А главное — он спешит и требует во всем оперативности и оптимальности. Вот по этому признаку, кажется, и отличают его всюду. Москвич спешит вне зависимости от того, нужно ли ему спешить на саком деле. Он не выносит задержек.
Но это тривиально. Меня интересует другое. Почему в разные дни мы такие разные?
…Вдруг все оттаивает, в воздухе что-то пронзительно-бодрое, духота отступает, откуда-то идут живительные лучи. Всюду улыбки, смех, шутки. Казалось, с чего бы?.. Не праздник, а если праздник, то природный, а не официальный. И обычные неприятности, даже крупные, в чем-то растворяются, все уступают друг другу, мир полон хороших людей…
В эти дни обновления и подъема кажется, что иначе никогда не было и не будет, что мир всегда такой — умный и предупредительный, бодрый и добрый.
В дни спокойной, деловой будничности ничто не может поколебать привычных ритмов работы, еды, встреч, развлечений. Автоматически дни проскакивают незаметной чередой.
Но вот мрак, мразь, слякоть на улицах и на лицах. Угрюмое отчуждение. Глаза опущены вниз, на заляпанные ботинки. Нет, иначе никогда не было. Так было всегда. Беспросветно. И так будет…
Есть дни, когда резко прыгает вверх статистика автомобильных катастроф, когда там и здесь вспыхивают ссоры, кругом ругаются, не дают пройти, все не так: автомат не работает, дети капризничают, дерутся, все надоели, уволюсь, напьюсь, разведусь… Есть ночи мигреней и беспокойств, когда все лекарства перестают действовать, у «неотложки» работы невпроворот, то и дело вызывают дежурного врача — знаю такие ночи.
Есть вечера скоропостижных смертей.
Ветры? Погода? Солнечные пятна? Накал политических событий?
Возможно. Все взаимосвязано… Но кто знает, может быть, выходит утром кто-то один, вставший не с той ноги, и заражает весь город… Мне испортил настроение Иван Иванович, а я Степану Петровичу, и не заметили как.
Не это ли происходит, например, в транспортной тесноте?