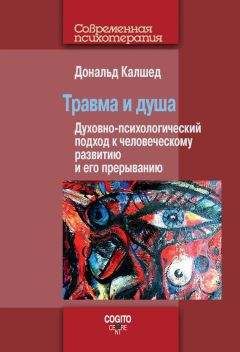Ознакомительная версия.
Амплификация, основанная на этой мистической традиции, позволяет нам взглянуть на то, что происходит с целостной Самостью и ее интегрирующей связью со своим «напарником» – Эго (см.: Neumann, 1976) – когда из-за травмы воплощение становится невозможным. Темный аспект Самости утрачивает связь с ее светлым аспектом и принимает такие архаичные расчеловеченные формы, как ярость, бунтарская Воля (сопротивление изменению). Только по мере того, как по ходу терапевтического процесса усиливается способность справляться с сильными аффектами, становится возможным воплощение, и с этого момента начинается интеграция темного и светлого аспектов Самости. Однако этот процесс является очень бурным, подобно гневу Афродиты, обнаружившей, что ее божественный сын унизился до любви к простой смертной.
Добровольная жертва и воплощение
Следующее, что мы отмечаем в этой части истории, – то, как Психея в конце концов «приходит в себя» и добровольно покоряется гневу Афродиты, которую она оскорбила. Здесь Психея предпринимает попытку окончательного искупления того самопревозношения и высокомерия, с которых началась наша повесть. Всю красоту и почитание, тогда «украденные» ею у богини, теперь Психея символически возвращает «объекту», которому это принадлежит по праву. В этом состоит момент принесения добровольной жертвы, который так интересовал Юнга. С него начинается процесс очеловечивания, сопровождающийся переживаниями телесной боли и унижения (порка и избиение). Непреодолимые трудности (задания) приводят ее в отчаяние, однако с этого момента божественное направляет «сакрализованное» Эго и покровительствует ему. Каждый раз благодаря вмешательству «божественного» аспекта жизни невыполнимая задача оказывается исполненной, так что теперь трансперсональное содействует развитию Эго. Это становится возможным только после принесения в жертву идентификации с божеством.
Мотив добровольной жертвы, обозначенный в мифе об Эроте и Психее, мы также находим в истории распятия Христа. Вот что об этом сказал Юнг:
Слова, произнесенные на кресте, выражают осознание полного краха: «Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня оставил?». Если вы хотите постичь всю глубину трагедии, заключенной в этих словах, вы должны признать: они означают, что Христос понял, что вся его жизнь, которую он искренне посвятил истине в соответствии со своими лучшими убеждениями, на самом деле была чудовищной иллюзией. Он посвятил всю свою жизнь без остатка этому служению, он предпринял честную попытку, но… но на кресте он сознает провал своей миссии.
(Jung, 1937a)
Однако при всем «крахе иллюзий» Христа и Психеи, главным в этой парадоксальной ситуации, прежде всего, является момент интеграции, в котором страдания начинают служить окончательному восстановлению когда-то разрушенного единства человеческого и божественного. Теолог Юрген Мольтман указывает, что слова, которые Христос произносит в своем последнем восклицании, могут означать «не только: „Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня оставил?“, но и: „Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты оставил Себя?“» (Moltman, 1974: 151). Парадоксально, но эти же самые слова звучат и в вопле Люцифера, который тот издает, когда ему раскрывается Божественный план Его собственного воплощения. В этом крике слышен космический протест Эго, которое, отождествив себя с чистой духовностью, до этого момента отвергало воплощение. Если Божественная природа состоит в отношениях между божественным и человеческим, то жертва означает не оставление Богом Бога, но начало воплощения.
Давайте оставим теологические спекуляции и вернемся к нашей истории. Смирение и беззащитность Психеи перед лицом гнева оскорбленной богини смягчают садизм Афродиты и, подобно Яхве, узревшему смиренное страдание Иова, она начинает скрытно содействовать разворачивающейся борьбе Психеи за окончательное воссоединение с Эротом. Признаки ее содействия мы видим, например, в том, что она, хотя и со смущением, все же признает успех Психеи, которая справляется с ее поручениями; а также в том, что позитивная сторона нуминозного приходит на выручку Психее каждый раз, когда та впадает в отчаяние, получив очередное невыполнимое задание. Используя термины Винникотта, мы можем сказать, что постепенный отказ Эго от всемогущества происходит всякий раз, когда Афродита (инфантильная царица нашей истории) «разрушает» свой объект, а объект (Психея) присутствует «здесь для того, чтобы принять сообщение». Тогда Афродита может сказать: «Эй, объект, я разрушила тебя. Я люблю тебя. Ты очень важен для меня и нужен мне, потому что каждый раз, когда я разрушаю тебя, ты выживаешь» (Winnicott, 1969: 22).
Радость и отношения между человеческим и божественным
Беременность Психеи является еще одним признаком того, что действие травматической защиты, с которой начинается наша история, ослабевает. С рождением ребенка, которого назовут Радость, в симбиотическом «единении в двоичности», которым наслаждалась наша пара в хрустальном дворце даймонического любовника Психеи, появляется отсутствующий прежде третий или, в терминологии Огдена, формируется способность к созданию символов. Итак, при том, что невыполнимые задания, которые дает Афродита, заставляют Психею страдать и сокрушаться по поводу своего бессилия, она обретает поддержку внутри себя. Можно сказать, что она черпает энергию из центра, расположенного на более глубоких уровнях ее существа для того, чтобы достичь своей цели. Эта цель состоит в обретении вновь утраченной способности любить, то есть в воссоздании отношений между человеческим и божественным, которые были «разрушены» при травматических обстоятельствах в начале нашей истории.
Тем не менее мы можем заметить напряжение между покорностью Психеи своей божественной госпоже и ее человеческим – слишком человеческим – любопытством (упрямство Эго), которому она опять не смогла противостоять при исполнении ею последнего задания, когда она несла с собой баночку с красотой Персефоны из царства Гадеса. Однако на этот раз настигающее ее возмездие богов не столь строгое – сон, от которого Эрот, теперь прошедший трансформацию и «очеловеченный» своей раной, может с легкостью пробудить ее.
В заключительном акте нашей драмы утверждена связь между личным и трансперсональным мирами через заключение брачного союза между божественным и человеческим – окончательной символической цели, к которой шла наша история. Эрот ищет у Зевса благословения на брак и его поддержки и, к нашему величайшему удовольствию, Зевс отвечает ему:
Хоть ты, достойнейший сын, никогда не отдавал мне должного почтения, присужденного мне собранием богов, а, наоборот, грудь мою, где предопределяются законы стихий и течения светил, часто поражал ударами и нередко ранил, пробуждая земное вожделенее, так что пятнал мою честь и доброе имя, заставлял нарушать законы, в особенности Юлиев закон, и общественную нравственность, унизительным образом меняя пресветлый лик мой на образ змеи, огня, зверей, птиц и домашнего скота, но, памятуя о своей скромности, а также и о том, что ты вырос на моих руках, исполняю все твои желания, только сумей успокоить своих противников. Кроме того, в ответ на настоящее благодеяние должен ты, если на земле в настоящее время находится какая-нибудь девица выдающейся красоты, устроить мне ее в виде благодарности.
(Neumann, 1956: 52)[90]
Из этого забавного признания беспомощности перед лицом власти, которой обладает над богами Эрот, власти впутывать других богов в человеческие дела, в том числе заставляя их принимать для этого звериные обличия, и тому подобного (беспомощный Зевс настаивает на том, чтобы испытать все это вновь, если только подвернется привлекательная девица!), мы понимаем, какую важную роль играет Эрот в процессе сошествия бога в человеческое сердце, а также, до какой степени, по-видимому, божественное нуждается в человеческом для того, чтобы стать реальным.
В заключительном акте нашей истории Зевс призывает всех олимпийских богов на пир, где он представляет им молодого Эрота и объявляет об ограничениях, которые он намеревается наложить на него:
Решил я некую узду наложить на буйные порывы его юного возраста; хватит с него, что ежедневно его порочат россказнями о прелюбодеяниях и всякого рода сквернах. Вырвать надлежит всякий повод к этому и мальчишескую распущенность обуздать брачными путами. Он остановил свой выбор на некой девушке и невинности лишил ее: пусть же она останется при нем, пусть он ею владеет и в объятиях Психеи да наслаждается вечно любовью.
(Там же)[91]
Затем Зевс посылает Гермеса для того, чтобы привести Психею на небеса, где он дает ей чашу с амброзией, сделав ее бессмертной, обеспечив, таким образом, вечность их брачных уз. Вскоре после брачного пира у них родилась дочь, миф говорит нам, что «на языке смертных ее назвали Радостью» (там же: 53). Памятуя, что Психея стала бессмертной, мы могли бы задать вопрос: кем же тогда является Радость: божеством или человеком? Здесь мы должны вспомнить предупреждение Эрота: если когда-нибудь его внешность предстанет перед Психеей «при свете», если она когда-нибудь действительно взглянет на него как на «другого» в хрустальном дворце, то ее ребенок будет смертным. Другими словами, божественность ее ребенка (и ее возлюбленного) возможны только при условии, что она остается в бессознательном состоянии. Однако Психея идет на риск разрушения своего божественного возлюбленного, раскрывая его даймонический аспект, и это не препятствует ее причислению к сонму олимпийцев. Таким образом, наша повесть представляет собой ясное предупреждение о том, что мы не всегда должны прислушиваться к богам, особенно если их присутствие как фигур архетипической системы самосохранения приводит к нашей изоляции от жизни в реальном мире. Наша история оставляет неразрешенной эту проблему – по сути, парадокс. Он состоит в том, что Радость одновременно является и божеством, и человеком – не или/или – и что путь к этой Радости лежит через страстное слияние экстаза (Психея) и унижения (Эрот), в котором происходит трансформация как человеческого, так и божественного через муку человеческих отношений в любовь.
Ознакомительная версия.