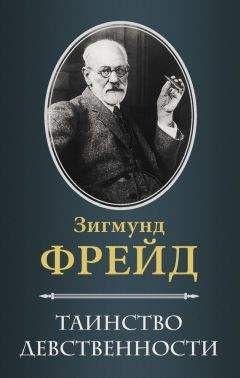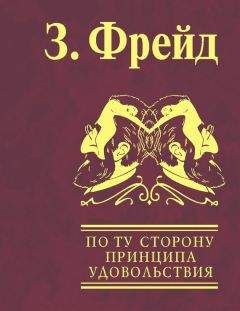В сущности, ничего необыкновенного в этом нет, и не производит впечатления дикой фантазии тот факт, что молодая, несколько лет тому назад поженившаяся супружеская пара после полуденного сна в жаркую летнюю пору предается нежному общению и не обращает при этом внимания на присутствие спящего в своей кроватке полуторагодовалого ребенка. Я полагаю, что это скорее нечто банальное, повседневное, и предполагаемое положение при соитии не может повлиять на наше мнение. В особенности если из имеющегося материала не следует, что соитие всякий раз производилось в положении сзади. Одного раза было достаточно, чтобы дать зрителю возможность сделать наблюдения, которые были бы почти невозможны при другом положении любящих. Содержание самой сцены не может, поэтому, быть доказательством того, что она не заслуживает доверия. Сомнение в вероятности содержит в себе три пункта: то, что ребенок в возрасте полутора лет в состоянии воспринять такой сложный процесс и с такой точностью сохранить его в бессознательном, во-вторых – что последующая, дошедшая до понимания обработка воспринятого таким образом впечатления возможна в четыре года, и, наконец, что можно осознать подробности такой сцены, пережитой и понятой при подобных обстоятельствах[97].
Позже я более тщательно исследую эти и другие сомнения; уверяю читателя, что я не менее, чем он, критически отношусь к допущению такого наблюдения у ребенка и прошу его вместе со мной решиться пока поверить в реальность этой сцены. Сперва продолжим изучение этой первичной сцены по отношению к сновидению, к симптомам и к истории жизни пациента. Мы проследим в отдельности, какое действие произвело содержание сцены по существу и одно из ее зрительных впечатлений в частности.
Под последним я понимаю положение родителей, которое он видел: вертикальное мужчины и звероподобное, на четвереньках – женщины. Мы уже слышали, что перед тем, как у него появились навязчивые страхи, сестра пугала его картинкой из сказок, на которой волк был изображен в вертикальном положении, с выдвинутой вперед задней лапой, протянутыми вперед передними лапами и навостренными ушами. Во время лечения он не пожалел трудов на поиски в антикварных магазинах, пока не отыскал книжку сказок из своего детства и не узнал пугавшую его картинку – иллюстрацию к сказке «Волк и семеро козлят». Он полагал, что положение волка могло ему напомнить положение отца во время «первичной сцены». Эта картинка, во всяком случае, стала исходным пунктом дальнейшего развития страха. Когда он на седьмом или восьмом году жизни однажды узнал, что завтра к нему придет новый учитель, он в ближайшую ночь увидел этого учителя во сне в виде льва, который с громким рыканьем приближался к его кровати в положении волка на той картинке, и опять проснулся от страха. Фобия, связанная с волком, была тогда уже преодолена, у него поэтому появилась возможность выбрать себе нового зверя как предмет страха, и в этом позднем сновидении он узнал в учителе заместителя отца. Каждый учитель в более поздние годы его детства играл ту же роль отца и приобретал влияние отца как в позитивном, так и в негативном смысле.
Судьба дала ему особенный повод освежить свою фобию волка в гимназическое время и сделать лежавшее в ее основе исходной точкой тяжелых комплексов. Учителя, преподававшего в его классе латынь, звали Вольф (волк). С самого начала он стал его бояться; однажды учитель его жестоко выбранил из-за глупой ошибки-оговорки, допущенной при переводе, и с тех пор он уже не мог освободиться от чувства парализующего страха перед этим учителем, страха, который вскоре перенесся на других учителей. Но и случай, при котором он ошибся в переводе, не был свободен от внутренних конфликтов. Он должен был перевести латинское слово «filius» (сын) и перевел его, употребив французское слово «fils» (сын) вместо соответствующего слова на родном языке. Волк все еще оставался отцом[98].
Первый преходящий симптом (passagere Symptom)[99], который появился у пациента во время лечения, относился еще к фобии волка и к сказке о семерых козлятах. В комнате, где происходили первые сеансы, находились большие стенные часы – против пациента, лежавшего отвернувшись от меня на диване. Я обратил внимание на то, что он время от времени поворачивался ко мне, смотрел на меня очень дружелюбно, как будто старался умилостивить меня, и затем переводил взор на часы. Я полагал тогда, что этим он выражает свое сильное желание поскорей закончить сеанс. Долгое время спустя пациент напомнил мне эту игру своей мимики и объяснил ее мне, рассказав, что самый молодой из семерых козлят спрятался в ящике стенных часов, между тем как шестеро остальных его братьев были съедены волком. Ему хотелось тогда сказать: «Будь добр со мной. Можно ли мне тебя не бояться? Ты меня не сожрешь? Может, мне спрятаться от тебя в ящике от часов, как тот самый молодой из козлят?»
Волк, которого он боялся, был, несомненно, проекцией его отца, но страх перед волком был связан с условием вертикального положения. На основании своих воспоминаний он с полной определенностью утверждает, что изображения волка, как в сказке «Красная Шапочка», не испугали бы его, если бы волк, к примеру, лежал в кровати, а не шел на всех четырех лапах. Не меньшее значение имело положение, в котором он, согласно нашей реконструкции первичной сцены, видел женщину; но это значение осталось ограниченным в сексуальной области. Самым замечательным явлением в его любовной жизни по наступлении зрелости были припадки навязчивой чувственной влюбленности, которые наступали и вновь исчезали в загадочной последовательности, развивали в нем колоссальную энергию даже в периоды заторможенности и овладеть которыми было совершенно не в его власти. Полную оценку этой навязчивой любви я должен отложить вследствие особенно ценной связи ее с другими моментами, но здесь могу указать, что она была связана с определенным, скрытым для него условием, узнать о котором удалось только во время лечения. Женщина должна была занять положение, какое в первичной сцене мы приписываем матери. Крупную, бросающуюся в глаза попо он с юных лет воспринимал как самую привлекательную прелесть женщины; соитие сзади почти не доставляло ему наслаждения. Критическое соображение вполне оправдывает возможное здесь возражение, что такое сексуальное предпочтение, оказываемое задним частям тела, составляет общий характер лиц, склонных к неврозу навязчивости, и не оправдывает объяснения, приписываемого особенному впечатлению, имевшему место в детские годы. Оно входит в состав анально-эротического предрасположения и относится к тем архаическим чертам, которыми отличается эта конституция. Coitus a tergo, more ferarum[100] можно ведь филогенетически рассматривать как более старую форму. Мы вернемся к этому пункту в дальнейшей дискуссии, когда приведем материал, касающийся бессознательных условий его любовного чувства.
Теперь продолжим рассмотрение отношений между сновидением и первичной сценой. Согласно теперешним нашим ожиданиям, сон должен был представить ребенку, радующемуся исполнению своих желаний к Рождеству, картину сексуального удовлетворения отцом в том виде, в каком он это наблюдал в той первичной сцене, что и стало образцом собственного удовлетворения, которое он желал получить от отца. Но вместо этой картины появляется материал истории, незадолго до того рассказанной дедом: дерево, волки, «бесхвостость» и сверхкомпенсация в виде пушистых хвостов означенных волков. Здесь у нас не хватает связи, ассоциативного моста, который ведет от содержания первичной сцены к истории о волке. Эта связь создается опять-таки только этим положением. Бесхвостый волк предлагает другим в рассказе деда взобраться на него. Эта деталь вызвала в воспоминаниях картину первичной сцены. Таким путем материал первичной сцены мог быть заменен материалом из истории о волке, и при этом одновременно двое родителей могли быть заменены по желанию несколькими волками. Ближайшее превращение содержания сновидения состояло в том, что история о волке приспособилась к содержанию сказки о семи козлятах, позаимствовав у нее число «семь»[101]. Превращение материала: первичная сцена – история о волке – сказка о семи козлятах – является отражением развития хода мыслей во время образования сновидения: тоска по сексуальному удовлетворению отцом – понимание связанного с ним условия кастрации – страх перед отцом. Полагаю, что кошмарный сон четырехлетнего ребенка только теперь ясен вполне[102].
После всего вышесказанного я могу лишь вкратце оста-новиться на патологическом влиянии первичной сцены и на тех изменениях, которые пробуждение этой сцены вызвало в его сексуальном развитии. Проследим только то действие, которое нашло себе выражение в сновидении. Позже выяснится, что не одно сексуальное течение произошло от этой первичной сцены, а целый ряд течений, прямо-таки расщепление сексуальной жизни. Далее мы должны будем принять во внимание, что оживление этой сцены (я нарочно избегаю слова «воспоминание») имеет то же действие, как если бы это было настоящее переживание. Сцена действует спустя некоторое время, и за это время – в промежутке между полутора и четырьмя годами – она не потеряла своей нежности. Может быть, мы в дальнейшем найдем признаки того, что определенное действие она оказала уже в то время, когда была воспринята, т. е. начиная с полутора лет. Когда пациент погружался в ситуацию первичной сцены, он высказал следующее самонаблюдение. Раньше он полагал, что наблюдаемое происшествие представляет собой акт насилия, но этому не соответствовало выражение удовольствия, которое он видел на лице матери; он должен был признать, что дело тут идет об удовлетворении[103]. Существенно новым, что дало ему наблюдение над общением родителей, было убеждение в действительном существовании кастрации, возможность которой уже раньше занимала его мысли (вид обеих девочек, пускавших мочу, угроза няни, объяснение гувернантки, данные ею конфеты, воспоминание о том, что отец палкой разбил на куски змею). Ибо теперь он видел собственными глазами «рану», о которой говорила няня, и понял, что существование ее является необходимым условием для общения с отцом. Он не мог уже смешивать ее с попо, как при наблюдении над маленькими девочками[104].