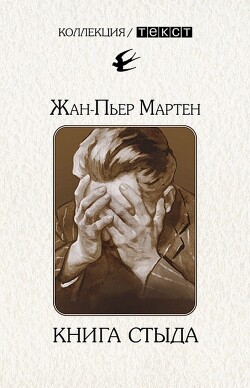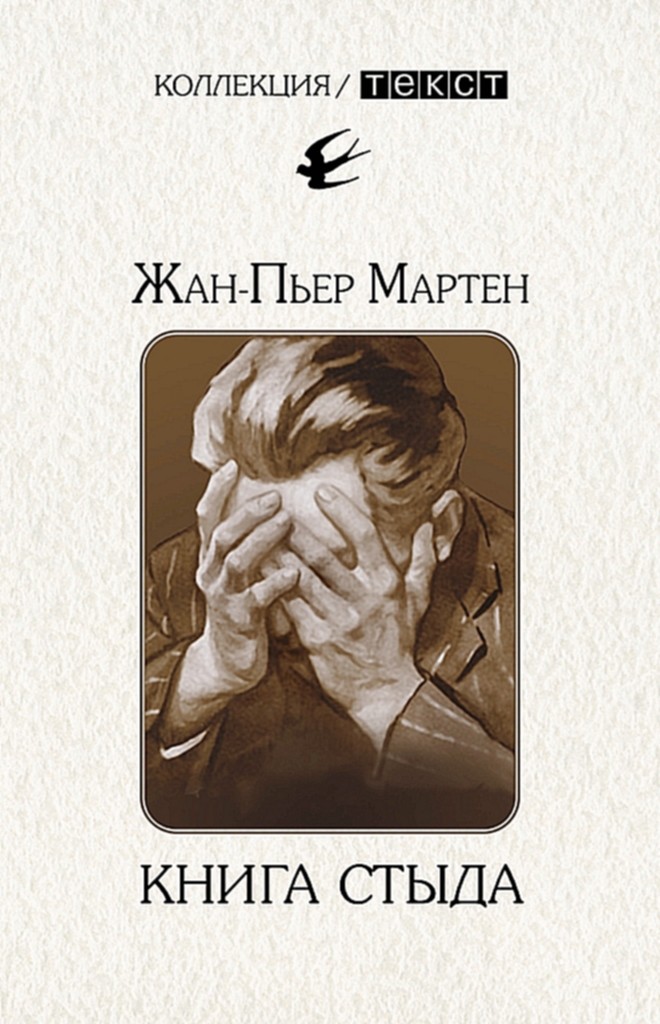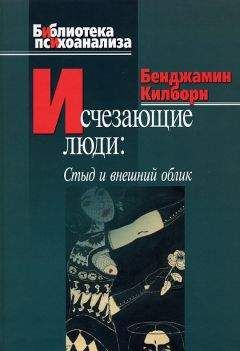По правде говоря, вторая категория не однородна. Она порождает фигуры необычайные: «[Джим был] не из их компании; он совсем из другого теста». Стыд — дополнение души. Он исключает из любой классификации. Он — загадка индивида, но он же — и источник его стремления к бегству: при одной только мысли о приговоре к новой, необычной обстановке, изобретенной литературой (и в особенности Конрадом), Лорд Джим отправится искать новое существование. Его жизнь будет проходить в другом месте, под другим именем.
Нет ничего удивительного, что он сделался излюбленной мишенью психоаналитиков. По мнению Жана-Люка Донне, Лорд Джим — типичный подросток[24]. Для Андре Грина он — герой морального нарциссизма: «Единственный грех морального нарциссизма — зацикленность на инфантильной мании величия; он вечно в долгу перед своим Идеальным Я. Вследствие этого он не чувствует себя виновным, но стыдится не быть тем, что он есть, или стараться быть в большей степени, чем он есть. […] В моральном нарциссизме […] наказание — в данном случае стыд — воплощается в ненасытном раздувании гордыни». Но в первую очередь Лорд Джим — персонаж романа. Он породил многочисленное потомство. Это и Джеффри Фирмен, консул из романа «У подножия вулкана» Малколма Лаури, еще один моряк, «изгнанный с моря», который таскает свою вину и свой грех «в милосердии невообразимых переметных сумок». Это и Кламанс из «Падения», безучастный свидетель самоубийства женщины, бросившейся в Сену[25].
Мучительное состояние человека, находящегося в конфликте с самим собой, где бы он ни оказался, можно назвать «комплексом Лорда Джима». В этой фантасмагорической битве другой непременно присутствует как плод воображения. Пусть общество не намеревается призвать к ответу, обостренное чувство собственного достоинства учреждает свой собственный внутренний трибунал. Осознание собственной трусости бросает тень на самоуважение. Порой и сам писатель, разрывающийся между жаждой приключения, которого ему не хватает, и чувством позора, неизбежным спутником его призвания, становится жертвой этого «комплекса». Так, Мишель Лейрис, отправившийся в Африку, чтобы убежать от самого себя, в мае 1932 года пишет жене: «Перечитай „Лорда Джима“ и подумай обо мне. Единственное, за что я признателен д-ру Борелю. — это совсем не лечение […], а то. что он понял: мне была нужна именно эта книга, я должен был сыграть именно этого персонажа».
«Алая буква» Готорна, другой величайший роман о стыде, изначально представляет нам ситуацию почти противоположную. На этот раз все общество обрушивается на одного-единственного человека, превращает его в священную жертву, подвергает остракизму. Дело происходит в Сейлеме, праведной массачусетсской колонии в пуританской Америке, где не покладая рук борются с нечистотой, верят в полезность публичного позора и убеждены, что, «каков бы ни был проступок, не существует […] кары, более противной человеческой природе и более жестокой, чем лишение преступника возможности спрятать лицо от стыда»[26].
Итак, это закованное в пуританскую мораль общество отправило в тюрьму Тестер Прин, виновную в прелюбодеянии. В начале романа ее выводят из тюрьмы, чтобы поставить на рыночной площади, на помосте у позорного столба — своего рода «карательной машины», символической гильотины, — где она должна простоять несколько часов. В глазах всех она воплощает стыд, два знака которого она носит: это ее трехмесячная дочь и буква А (первая буква слова adulteress — «прелюбодейка»), вышитая из превосходной алой материи на лифе ее платья. Это зрелище призвано внушать «уважение и благоговейный страх».
«Она нас всех опозорила, значит, ее нужно казнить», — восклицает одна из зрительниц. В чем состоит ее преступление? Прежде всего в том, что она зачала незаконного ребенка; кроме того — и это самое главное, — в том, что она отказалась назвать человека, с которым совершила грех прелюбодеяния (имя ее мужа также остается покрытым тайной). Поэтому тело Тестер выставлено, «словно статуя бесчестья, на посмеяние толпы». Перл, ее дочь, — дитя ее «моральной агонии». Алая буква, эшафот у позорного столба, стыд, выставленный на виду у тысяч глаз: в этой сцене разыгрывается нечто вроде публичной смерти. Вся прошлая жизнь проходит перед глазами Тестер.
Но вот происходит своего рода поворот: помост у позорного столба и тюремное заключение становятся отправной точкой к возрождению. Когда Тестер выходит из тюрьмы, она может уехать куда угодно — подобно конрадовскому Джеймсу, ставшему Лордом Джимом в Патюзане. Тем более что Новая Англия для нее, эмигрантки, — не более чем вторая родина. Однако она решает остаться, поселившись в маленьком уединенном жилище на окраине города. «Тут, думала она, свершен грех, тут должно свершиться и земное наказание. Быть может, пытка ежедневного унижения очистит в конце концов ее душу и заменит утраченную чистоту новой, в мучениях обретенной, а потому и более священной». Она станет святой и мученицей и, подобно Суфии, героине Салмана Рушди, сделается воплощением стыда в глазах окружающих. Но что ее выделяет, так это ее обращение с символом стыда. Ни на секунду не пытаясь спрятаться, она, наоборот, выставляет напоказ искусно расшитую ее руками алую букву. Эта каждодневная рутина — испытание более мучительное, чем стояние у позорного столба.
Готорн отмечает этот странный мазохизм: «…Может показаться непонятным, что, несмотря на все, она по-прежнему считала своим домом то единственное место, где была живым примером позора». Стыд обрел нерасторжимую связь с ее новой родиной: «Грех и бесчестье — вот корни, которыми Тестер вросла в эту почву. Как бы заново родившись на свет, она обрела бо́льшую способность привязываться, чем при первом рождении, и поэтому лесной край, нелюбезный другим странникам и пилигримам, стал для нее родным домом — суровым, безрадостным, но единственно возможным».
Зримое клеймо ее позора, алая буква одновременно становится знаком ее инициации и укрепления ее духа. Она отделяет ее от мира: «В ней словно скрывались какие-то чары, которые, отторгнув Тестер Прин от остальных людей, замкнули ее в особом кругу». Она и дальше будет пылать на ее груди, внушая «ужас и глубокое отвращение» — настолько, что так никем и не опровергнутый слух гласит, «будто само адское пламя окрасило букву в алый цвет».
Иными словами, стыд Тестер несет в себе знание об окружающем ее обществе: «…Она чувствовала или воображала, что алая буква наделила ее как бы новым органом чувств. Содрогаясь, Тестер тем не менее верила в свою способность угадывать […] тайный грех в сердцах других людей». Иллюзия? Ложное впечатление, порожденное «даром псевдоясновидения»? Нет: благодаря своего рода глубокой симпатии, которую она чувствует по отношению к окружающим, Тестер ощущала в своем теле и повсюду вокруг себя обобщенный стыд, в равной мере начинающий пульсировать при виде почтенного пастора — образца земной святости, матроны или молоденькой девушки. Он заставляет краснеть всю землю, охватывая ее узами «таинственного чувства сродства». Мало-помалу, по прошествии семи лет, алая буква обретает другой, более сложный смысл: она стала «для нее пропуском в области, запретные для других женщин»[27]. Шаг за шагом силой своих дел Тестер стала «сестрой милосердия», и позорный знак воспринимался теперь как «символ ее призвания». Он начал играть роль «креста на груди у монахини». Ужас, который он порождал, обратился в какой-то священный трепет перед лицом этой необычной святости. Сама же Тестер приобрела широту взглядов и «свободу мысли». Она смогла сорвать с себя цепи морального закона и отныне смотрела на все людские установления «с обособленной точки зрения».
И наоборот, любовник, с которым она (с точки зрения пуритан) совершила грех, отец Перл, священник, был одержим страхом «снова нести бремя своего позора». Будучи «особенно сильно окован законами общества, его принципами и даже его предрассудками», он похоронил свою тайну. Через семь лет после того, как совершилось назначенное ей искупление, Тестер предлагает своему любовнику бежать: сменить имя, сменить страну. Но как бежать, не унеся с собой своего стыда?