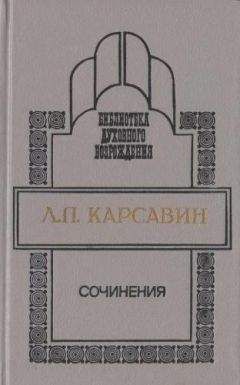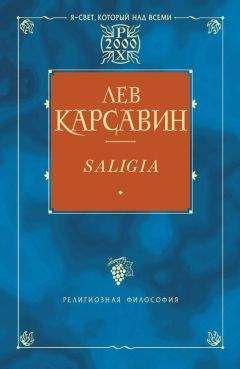Историзм не постоянное свойство народа. Есть эпохи исторические и не–исторические, причем расцвет истории как специфической науки не всегда совпадает с первыми, хотя чаще всего ими обуславливается и за ними следует. Историзм зарождается, когда в народе, т. е. в лучших выразителях его, пробуждается и стремится себя высказать национальное самосознание. Оно находит себя и свой язык в новой историософской концепции, содержащей те идеалы или цели, которые свободно себе ставит народ, и из них осмысляющей его прошлое. Эта концепция — конечно, если она органична и действительно народна, — не прошлое определяет будущим и не будущее прошлым, но раскрывает с большею или меньшею ясностью и полнотою сверхвременный идеал и сверхвременное существо народа. Она выражает природу народа, но природа здесь не необходимость и предопределенность, а сама свободная воля народа, осуществляющая себя во всей его истории. Когда русский человек говорит: «Коммунизм не соответствует духу русского народа» или: «Реставрация императорской России невозможна», он не покорно склоняется перед приятною или неприятною для него необходимостью, а либо думает: «Я вместе с моим народом не хочу коммунизма и реставрации», либо отрекается от своего народа. Конечно, сверх того он может еще и ошибаться (хотя и не в приведенных двух случаях).
Новая историософская концепция естественно увлекает и специалистов–историков. Они начинают ее развивать и обосновывать на историческом материале, устранять неизбежные наивность и недостаточность первой ее формулировки; и, таким образом, историзм проникает в сферу истории–науки. Во всяком случае, новая концепция становится и для специалистов–историков тем центром, около которого начинает обращаться их специальная работа. Они или защищают и раскрывают зародившиеся идеи, или борются с ними во имя других идей, либо во имя беспринципной научности. И долго еще после первой и пламенной идеологической борьбы поставленные ею проблемы остаются средоточием собственно–исторической работы. Так, русская историография до сих пор все еще не исчерпала и до конца не уяснила славянофильской проблемы о смысле реформ Петра.
Автор не хочет умалять значения исторической науки и таким образом ставить себя в положение не помнящего родства. — У исторической науки свой специальные задачи. Ее работа нужна и для историософских построений. Но надо ясно сознавать границы специальности, т. е. не требовать от историка–специалиста, чтобы он обязательно обладал историософским миросозерцанием и являлся высшею апелляционною инстанциею во всех спорах о верности и ценности той или иной историософской концепции. Это не его дело; и это может быть его делом лишь постольку, поскольку он — больше, чем специалист–историк. Если он сам притязает на роль верховного авторитета во имя своей «научности», надо ему напомнить о границах его специальности и деликатно «поставить его на место». Необходимо отделаться от гипноза научности (т. е. всегда — ограниченной специальности), который уже привел к нелепой вере в рефлексологию и марксизм. Отсюда не следует, что кто–нибудь, кроме историка–специалиста, может вполне конкретизировать и обосновать историософскую концепцию и что его критика не имеет существенного значения. Развитие историософии можно определить как борьбу между интуитивной историософией и историческою наукою. Только в процессе этой борьбы и может историософская система приобрести полную ясность и обоснованность.
4.
Первые признаки русской историософии появляются в XVI веке — в послании инока Филофея Василию III, в распространении идеи «Русского Царства» как «Нового Израиля», в целом ряде религиозно–национальных легенд и преданий. Но только в XIX в. у славянофилов русская историософия выходит из мифологической формы и выливается в наукообразную систему идей. Славянофилы выдвинули Православие как само вселенское христианство, и русский народ как преимущественного исповедника и носителя его. Они попытались вскрыть в русском национальном укладе проявление основ Православия, усматривая их в отражающих догму «соборности» своеобразных взаимоотношениях между индивидуумом и целым, между «землею«-народом и властью, в специфичности правосознания, в крестьянском «мире». Тем самым определялось отношение России к инославному Западу; сначала — внутри самой России. Практически эта последняя проблема приняла форму оценки Петровской Реформы, оценки критической, но по замыслу славянофильства совсем не всецело отрицательной, и привела к борьбе с идеологами западной культуры как культуры единственной и универсальной. В аспекте «всеобщей» истории противопоставление России Европе необходимо и естественно вылилось в форму общеисторической концепции, которую набрасывал уже А. С. Хомяков, упрощенно высказал Данилевский и еще более упростил, но вместе и видоизменил и обогатил К. Леонтьев. Православная Россия предстала как особый религиозно–культурный мир со своими особыми задачами и со своею особою общечеловеческою миссией. К несчастью, русское национальное самосознание расплылось у большинства славянофилов в панславизме, главным образом, думаем, потому, что жизненные задачи России были основательно забыты и затемнены европеизовавшеюся империею и единственною точкою приложения для национально–русской политики казался славянский вопрос. Эта ошибка славянофилов, оплодотворившая, впрочем, «славяноведение» (В. И. Ламанский), была исправлена впервые указавшим на значение туранства К. Леонтьевым, все–таки славянофилом, но исправлена для судеб славянофильства слишком поздно.
Русские западники, сами имевшие за душой очень мало своего, да и этим немногим владевшие вопреки своему западничеству, сделали все возможное, чтобы уличить в «неоригинальное «своих врагов — славянофилов. Аргумент, уместный в устах славянофилов, оказался направленным именно против них и притом как упрек, хотя для нападавшего западника он должен бы, казалось, звучать похвалою. В атмосфере инсинуаций и поверхностного зубоскальства появилось и утвердилось даже в учебниках обвинение славянофилов в «шеллингианстве». Но достаточно ли это до сих пор импонирующее обвинение для того, чтобы отрицать национальное существо славянофильской идеи? Во–первых, установление сходства и сродства еще недостаточно для установления зависимости. Во–вторых, нет никакой нужды отрицать гениальность Шеллинга и Гегеля и утверждать, что оба они только заблуждались и фантазировали, а ничего истинного и абсолютно значимого так и не видели. Подобные утверждения совершенно не согласуются с духом историзма. В–третьих, нет вообще ни одного исторического явления, которое бы не стояло в связи с другими, не «влияло» и не испытывало влияний. Весь вопрос не в том, «влияла» ли германская философия на славянофилов, а в том, являются или нет славянофильские идеи, подобно западническим, простым повторением западно–европейских. Отрицательный же ответ на этот вопрос неизбежен.
— Славянофилы отталкивались от немецкого идеализма. В борьбе с ним они усматривали и его правду, и его ошибки, и свои новые и конкретные принципы. Они усваивали методы европейского философствования, но от этого не становились менее оригинальными, чем комбинировавший идеи Декарта и Юма Кант или воспроизводивший мысли Дунса Скота Декарт. Такова была судьба русского самосознания, что оно вынуждено было выражать себя на уже готовом чужом языке, а создание своего языка предоставить будущему. Это ясно понимал не кто иной, как И. В. Киреевский, когда он обращался к изучению святоотеческой литературы.
Как бы то ни было, развитие русской историософии пошло по пути, намеченному славянофилами; и мы затруднились бы найти в русской литературе какую–нибудь ценную историософическую концепцию, кроме славянофильской. И не случайно в период оживления нашего национального самосознания рано умерший русский мыслитель В. Ф. Эрн произнес знаменательные слова: «Время славянофильствует». Нам, конечно, известно применение к истории России теории родового быта. Но разве это историософская концепция, а не внешне прилагаемая к русской истории, и к тому же довольно бледная схема? Можно ли назвать именем историософии искания на Руси феодализма, связанные с именем Павлова–Сильванского, обобщающая книга которого, по справедливому замечанию его учителя и одного из крупнейших русских историков С. Ф. Платонова, «ниже ее автора»? Или «Очерки русской культуры» Милюкова? Или общие обзоры Рожкова и Покровского, который, впрочем, поталантливее Милюкова или Кизеветтера? Вне славянофильского построения не было и нет никакого. Из этого, впрочем, не следует, что славянофильская концепция достигла достаточного развития, получила обоснование и вышла из стадии первичной интуиции. Русская историческая наука уклонилась от того задания, которое поставило перед нею устами славянофилов русское национальное самосознание. Она, конечно, вовлекла в сферу своего рассмотрения отдельные проблемы, выдвинутые ими; но она просто прошла мимо системы их идей, как таковой. Этим мы нисколько не желаем умалить специальные заслуги исторической науки в России. Мы лишь констатируем разрыв между нею и национальным самосознанием, ее самозамыкание в сфере своих специальных интересов. Поэтому мы и не находим в ней синтетического построения. Потому подрастающее поколение, которое настроено национальнее, чем его отцы и деды, должно либо испытывать разочарование, либо хвататься за марксистскую макулатуру.